
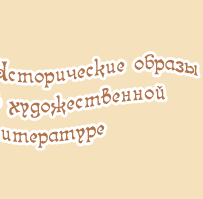

Библиотека
Ссылки
О сайте
24. Вести
Екатерина Федоровна Муравьева и мать Бестужевых, у которой по делу 14 декабря было осуждено пять сыно-вей, по мнению Бенкендорфа и подведомственного ему III отделения были самыми беспокойными и надоедливыми из всех, кто хлопотал о пострадавших по этому делу. В то время как мать Бестужевых из-за скудости своего состояния все надежды на улучшение участи своих сыновей возлагала на "монаршую милость", Екатерина Федоровна, хотя тоже не раз со слезами и горячей материнской мольбой "припадала к стопам императора, милосердию которого нет границ", в то же время искала и находила всякие возможности к передаче своим сыновьям в Сибирь таких посылок, содержимое которых было бы опротестовано властями. Муравьева была богата и не боялась возможности пропажи части пересылаемого. Да этого почти и не случалось, ибо тем, кто исполнял ее поручения за деньги, она платила так щедро, что не было смысла воровать. А те, кто делал это из сочувствия ее горю или из уважения к адресатам этих посылок, относились к ним с большей бережливостью, чем к собственным вещам. Нелегальные письма, в которых сообщались обычно важные сведения, интересные для всех изгнанников, имели на конверте короткий безыменный адрес: "Нашим" и подписывались условно.
Так как самим "государственным преступникам" писать родным не разрешалось, это делали за них "дамы". Они выслушивали во время свидания все пожелания заключенных и, придя домой, спешили скорей записать их.
После обычного обращения: "Милостивая государыня" или "Милостивый государь" письмо начиналось фразой: "По поручению вашего сына, уведомляю вас, что...", и дальше излагалось целиком то, чего хотелось заключенному, но только в третьем лице. Этих писем приходилось писать очень много, но, зная, сколько радости и утешения они приносят и адресатам и отправителям, "дамы" писали их с большой готовностью.
За одним из таких писем застал Волконскую сын дьячка, долговязый угреватый семинарист, отпущенный к отцу в гости на престольный праздник.
Поклонившись с порога так, как будто хотел боднуть головой, он полез за пазуху и вытащил письмо.
- Кузнецов велел вам передать,- проговорил он ломающимся басом.
Марья Николаевна быстро взяла конверт. "Нашим" - стояло на нем одно слово.
- Присядьте,- указала Волконская на скамью.
- Иду это я мимо лавки с красным товаром...- рассказывал семинарист, но Марья Николаевна не слушала его. Жадными глазами пробегала она по строкам письма. В нем сообщалось, что не далее как через две почты будет получен приказ о снятии с узников кандалов. Что приказ этот уже государем подписан и лишь задерживается из-за формальностей канцелярии III отделения. И еще сообщалось, что письмо это передается через купца, который по нескольку раз в год шлет в Москву обозы с пушниной и забирает для Читы всякого товару.
Через него удобно держать связь и в дальнейшем. - Только чтоб папаша не знал, что я был у вас,- смущенно оправляя свой длиннополый сюртук, попросил семинарист, когда Марья Николаевна обратила на него внимание.- Сейчас-то их дома нет. На требу с отцом Ни-кодимом к Муравьевой пошел... - Что вы говорите? - спросила Марья Николаевна побелевшими губами. - Захворала она, сказывают, безнадежно и, почуяв смертный свой час, пожелала по христианскому обычаю... - Простите меня,- перебила Волконская,- но я должна сейчас же бежать туда. Семинарист снова боднул головой и, пятясь, отступил к двери. Он не успел еще свернуть за угол, как мимо него в легком платье, с одной лишь кашемировой шалью на плечах пробежала Волконская.
"Экая горлинка пригожая!" - глядя ей вслед, прошептал семинарист.
Из ворот муравьевского дома вышел священник с дарами. Пока Марья Николаевна о чем-то говорила с ним, семинарист метнулся обратно к забору и распластался нa земле возле сложенного хвороста. Волконская не успела подойти к дому Муравьевой, как навстречу ей показалась Нарышкина. Увидев ее сияющие на умном лице глаза и спокойную улыбку, Марья Николаевна едва выговорила:
- Боже мой, я ничего не понимаю! Что с Александриной?
- Не волнуйтесь, Мари,- заговорила по-французски Нарышкина,- я спешила к вам, чтоб передать всю эту историю, которую наш милый Вольф сочинил.
И она рассказала, как Вольфу удалось упросить Ле-парского разрешить Никите Муравьеву навестить жену, а чтобы из этого не создать "историю для Петербурга", решили распустить слух, что Александрина при смерти, желает исповедаться, для чего она, Нарышкина, и вызвала священника.
- Лишний раз исповедаться такой грешнице, как Александрина,- шутливо говорила Нарышкина,- не мешает. Но чего мне стоило убедить ее, что это надо сделать только из конспиративных соображений! Бедняжка думала, что ее дело действительно безнадежно, и ужасно волновалась. Но зато он, ее Никита, сейчас там...
Из глаз Марьи Николаевны брызнули слезы.
- Я так рада за нее,- проговорила она,- и счастлива, что могу доставить ей еще одну радость!
Она торопливо передала Нарышкиной полученное из-' вестие и поспешила к Муравьевой.
"Как счастливо, что и Никита здесь! Он сегодня же передаст нашим в острог эту утешительную весть".
В сенях ее встретил хозяйский свекор, "Кедр". Он притянул ее за плечо и скороговоркой прошептал на ухо:
- У Муравьихи муж из острога. С солдатом привели.
Стоявший у порога в комнате Муравьевой солдат коротко взглянул на Волконскую, поправил сползшее с плеча ружье и растерянно переминался с ноги на ногу. В ряде строгих наставлений, которые были сделаны ему Лепарским по поводу поручаемого государственного преступника, ничего не упоминалось насчет возможности появления при этом свидании посторонних лиц. И после некоторого размышления солдат решил, что ему, следовательно, надлежит спокойно оставаться на своем посту.
Лицо Александрины горело румянцем счастья, а глаза, устремленные на сидящего возле нее Никиту, щурились, как будто она смотрела на солнце. Он одной рукой придерживал кандалы, другой гладил ее разметавшиеся по подушке золотистые волосы. Когда он приподнялся, чтобы поцеловать руку Волконской, Александрина потянулась за ним, обняла сзади за плечи и закрыла глаза.
Марья Николаевна быстро придумала, как сообщить им счастливую новость.
С самым невинным видом она стала рассказывать о своей прогулке верхом по берегам Аргуни.
- Эти места так хороши, так красивы,- говорила она, многозначительно взглядывая на Муравьевых,- что, право, не знаю, с чем их сравнить. Они напоминают, пожалуй, картины той природы, которые описаны французским писателем в романе: "Bientot va suivre l'ordre d'oter les fers aux detenus"*.
* (Скоро последует приказ о снятии кандалов с узников. )
Муравьева широко раскрыла глаза. Никита тоже вскинул на Волконскую радостно-недоверчивый взгляд:
- Мне кажется, что сочинение это называется: "Est-il possible"?* - стараясь говорить спокойно, спросил он.
* (Возможно ли это?(франц.) )
- Нет, я точно знаю, что именно так, как я сказала,- настойчиво повторила Волконская.
Когда она наклонилась над Александриной, чтобы поцеловать ее, часовой, думая, что она навсегда прощается с умирающей, отвернулся, чтобы не увидали сочувствия на его лице.
Уже давно так спокойно не проводили вечера собравшиеся к Волконской гости. Среди них присутствовала и приехавшая к Анненкову Полина Гебль. Впрочем, теперь она уже не носила этой фамилии, так как через несколько дней по приезде была обвенчана с Анненковым. С разрешения начальства на время венчания с Анненкова сняли кандалы. Но едва только новобрачные вышли на паперть, как он снова был закован, и отведен в тюрьму. Француженка и в изгнание привезла свою неистощимую жизнерадостность. Она со смехом рассказывала новым подругам о. своих хлопотах, связанных с поездкой к обожаемому Жано,- так она называла Ивана Александровича. О том, как она сказала царю, что готовится быть матерью, в то время как ее дочь уже ползала по коврам в доме своей богатой бабки Анненковой, которая такая оригиналка, такая непонятная и такая добрая: спит в роскошных туалетах под плюшевым балдахином и сидя в кресле. И требует, чтобы при этом горничные девушки тихонько шипели. В карету садится лишь тогда, когда сиденье обогрето толстой претолстой приживалкой. Дворецкого способна отхлестать по щекам за то, что он слишком много свечей в девичью отпускает, а потом подарит ему шубу на еноте, почти не ношенную.
Мысли Полины перепархивали с предмета на предмет, от царя к ямщикам, которые везли ее и с которыми она разговаривала по-русски.
- Да, да, mesdames! - хохотала она,- я им говорю:
"Na tchai, poskorei, vodka!" А они мне: "Obrok, nitchego, avos..."
Гости тоже смеялись, представляя себе, как ни слова не говорящая по-русски Полина "разговаривала" с ямщиками.
Разошлись поздно, но заснуть ни Волконская, ни Трубецкая долго не могли: у хозяина по случаю престольного праздника тоже были гости. Сквозь деревянную перегородку было слышно, как Дубинин жаловался:
- Нет, вы мне скажите, где после этого справедливость? - Вслед за этим вопросом послышалось звяканье стекла о стекло и бульканье.- Начальство требует от нас сугубой к государственным преступникам строгости, и к их женам не меньшей. Вот я ей и сказал: "Сударыня, не выражайтесь на чуждом языке",- а она - нуль внимания... Пришлось, следовательно, воздействовать... И мне же попало... Каково это переносить?
- До истины весьма трудно дойти, сын мой,- смиренно прозвучал сочный тенорок отца Никодима.- Где истина, где она, где те пути неисповедимые, кои приведут нас к ее обетованному обиталищу?
И снова длительное булькание из узкого горлышка. А следом недовольный голос дьякона:
- Не ищите только, гости дорогие, истины на дне графина, к коему вы столь усердно прикладываетесь. Особливо вы, отец Никодим. Чай, слыхали о высочайшем повелении относительно угощения духовных лиц?
- Что городишь, дьякон? - недоверчиво спросил отец Никодим.
- А то, что знаю. Как неоднократно доходило до сведения его императорского величества о скоропостижных кончинах духовных лиц, последовавших от чрезмерной напоенности в гостях у светских хозяев, то вышел к непременному наблюдению циркуляр, буде подобный факт смерти духовного лица в нетрезвом состоянии установлен, то при производстве о сем следствия присовокуплять сведения о самих хозяевах. Так что не сочтите за скупость...
- О сем не беспокойся, за меня по крайней мере! - засмеялся отец Никодим.- Ни единым и не двумя подобными сосудами смерти моей не приблизить...
- Слышишь, Мари? - чуть уловимо донеслось с кровати Каташи.
- Еще бы...
А за стеной Дубинин, поставив локти между тарелкой с солеными грибами и остывшими пельменями, опустив на руки голову, горько каялся в своих тяжких грехах, роняя пьяные слезы на пестрядевую скатертку.
- Пойду я наг и бос по святым местам, пойду по всем угодникам замаливать мерзости, мною содеянные. До самого Киева дойду, беспременно дойду!
- В Киеве,- басовито заговорил семинарист,- такие кабаки есть, что и не опамятуешься. Мне Петька Кресто-воздвиженский сказывал. Его за разгул из семинарии выставили, а наш батя благочинный ему дядей приходится, так к нам его перевели.
Дубинин всхлипнул еще несколько раз, со звоном отодвинул свой стакан и, стуча тяжелыми сапогами, пошел домой. Там снова велел подать себе вина и, напившись до ярости, жестоко избил своего тщедушного денщика.
Перед рассветом кто-то осторожно, но настойчиво постучал в окно. Марья Николаевна подняла голову.
Масляный ночник с треском догорал чахлым огоньком, и серо-голубые сумерки заполняли комнату.
Стук повторился.
Марья Николаевна, набросив стеганый капот, босиком подбежала к окну, откинула занавеску, пригнулась и с испугом отшатнулась назад.
Орлов, прижав лоб к стеклу и заслонясь с висков обеими руками, глядел на нее большими блестящими глазами. Он что-то говорил, но Марья Николаевна не слышала. Тогда он, ткнув себя пальцем в грудь, показал на внутренность избы, и Марья Николаевна откинула крючки входной двери.
Через минуту Орлов был на пороге.
- Водицы испить бы, княгинюшка,- прошептал он запекшимися губами и в изнеможении опустился на лавку.
Марья Николаевна подала ему ковш.
Жадными шумными глотками выпил он все до дна.
- Убежал? - коротко спросила Марья Николаевна.
Орлов молча кивнул головой.
- Укройте до ночи, княгиня, а ночью пойду дальше,- так же шопотом проговорил Орлов.
Марья Николаевна взглянула на полог, за которым спала Каташа, и села на лавку, подобрав озябшие ноги.
- Возьми хлеба,- указала она Орлову на полку.
Он отломил кусок, съел, старательно подбирая все крошки, и ближе придвинулся к Волконской.
- Спасибо за ласку, княгиня. А я к вам с недобрыми вестями.
- О Сухинове? - с забившимся в тяжелом предчув-ствии сердцем спросила Волконская.
- О нем,- низко опустил голову Орлов.
- Погоди, я разбужу Катерину Ивановну,- сказала Марья Николаевна и, пройдя за полог, осторожно взяла Каташу за теплое плечо.
Та улыбнулась во сне и, не открывая глаз, повернулась на другой бок.
Но Марья Николаевна, присев на край постели, все же разбудила ее и рассказала об Орлове.
- Конечно, мы его укроем до ночи,- сразу согласилась Трубецкая на его просьбу.- Спрячем его у нас.- И она стала торопливо одеваться.
Волконская растопила печь. Плотно завесив окна и заперев дверь на крюк, сидели они втроем у стола с дымящимися кружками чая. С замирающим сердцем слушали женщины Орлова, рассказывающего трагическую историю о Сухинове:
- Сговорились мы с ним честь честью, чтоб помог я ему бежать. Должен был провести его через тайгу много раз бывавший в бегах Мишка Казаков. Путь лежал таежной тропой на Упыр. Там у тунгусов не кони, а олени. Взяли две четвертных, разорвали пополам - это у нас в Сибири такой бродяжный способ. От каждой из четвертных Сухинов по половинке мне отдал, а другие Казакову, чтоб, как предоставит его Казаков на место, дал он ему записку, что все в порядке. Тогда довжен я Казакову свои половинки вернуть. Он их склеит и значит без обмана, а то ведь у нас как говорится: "Сибирь благая, мошка злая, а народ бешеный". Обмозговали все дело - лучше не надо. Кроме нас троих, кажись, знали об нем грудь да подоплека. Да на беду забрел Казаков в кабак, выпил и стал похваляться, что вскорости такую гульбу заведет, что всем на удивление. Подкатились тут к нему начальниковы лазутчики, выпытали кое-что и свели его к маркштейгеру. Тот подождал, покуда Казаков протрезвился. Стал допытывать, а Мишка в ответ одно: "Спьяну наплел",- да и баста. Однако начальство на сторожило уши. И мы порешили, что человек Казаков не надежный и его следует убрать...
Орлов сдвинул брови, помолчал, отхлебнул из кружки и продолжал, глядя в землю:
- Не я, а верные мои ребята заманили его в лес... Зарубили и закопали: в одном месте туловище с головой, в другом - руки, в третьем - ноги. Начальство решило, что бежал он, и, кажись бы, концы в воду. Ан, нет... Острожный пес разрыл в лесу одну из ям и приволок к конторскому крыльцу человечью руку. Ну, тут уж пошло следствие с палками, плетьми, розгами... Ребята и не стерпели,- Орлов скрипнул зубами,- выдали! Заковали барина Сухинова в железа и держали за строгим караулом. Нарядили военно-судное дело. Запросили Санкт-Петербург. И прошел слух, что велено главных в сем деле виновников отхлестать кнутом по четыреста раз. Прослышав о сем, свиделся я с Сухиновым, и упросил он меня доставить ему яду крысиного. Покою, сказывал, от крыс нет ему ни днем, ни ночью. Я и поверь ему. Предоставил отраву, а он возьми и прими ее сам. Отходили его... Он вдругорядь... И опять смерть не смилостивилась. Могуч больно. Свиделся я с ним еще раз. Думал: авось уговорю. А он одно: "Позора не допущу, Орлов, а как помру, проберись к княгине Марье Николаевне и передай ей и нашим всем, что не в силах, мол, я пережить горестной мысли, что не могли мы добыть вольности даже этакими тяжелыми муками". И в ту же ночь слышу крик: "Кто-то из секретных повесился!" Всполошился острог. Принесли огня и увидели Сухинова: висит на ремешке, на котором кандалы поддерживал. Кликнули лекаря. Помог я ему тело снять, а оно будто не вовсе остылое. "Ваше благородие,- шепчу я,- кажись, в ем дух не вовсе отлетел". А лекарь мне: "Молчи! Мало ль он настрадался! Знай, неси на лед..."
Орлов замолчал.
Каташа тихо плакала.
Марья Николаевна похолодевшими пальцами мяла липкие шарики хлеба.
- А что дальше творилось! - заговорил Орлов после долгого молчания.- Приехало начальство с приговором, и стали производить экзекуцию. Сухинова мертвого на лобное место принесли, а ребят, которые с ним в согласии были, расстреляли, да как!.. Меткости у солдат никакой не было. Чисто изрешетили всех, да, видно, пули дуры, не к месту добрые были. Офицеры штыками прикололи. В сие же время других под барабанный бой драли - кого плетьми, кого шпицрутенами. Пальба, вопли, ад кромешный...
Орлов неестественно кашлянул несколько раз и низко опустил меченую по-каторжному, наполовину обритую голову.
Весь день просидел он, бледный и унылый, за ситцевым пологом у Каташиной кровати, а ночью, когда все стихло, одетый в подаренную Марьей Николаевной шинель и снабженный деньгами, прощался в густой темноте двора.
- Вы еще прослышите обо мне. А может, и сам наведаюсь, коли головы не сложу.
- Почему ты хлеба не хочешь взять? - спросила Каташа.
- Насчет пропитания не сумлевайтесь,- сказал Орлов, и в темноте блеснула белая каемка его зубов.- В Сибири в каждом селении крестьяне на потайные под окнами полочки съестное кладут - для нас, беглых, харч припасают.
Каташа возвратилась в избу, а Марья Николаевна пошла провожать Орлова до околицы.
В ночной темноте часовые видели их неясные силуэты, но не обратили на это внимания: они знали, что "секретные барыни" нередко выходили прогуляться в темные вечера даже за околицу.
- Ворочайся, княгиня,- остановился Орлов,- ворочайся, а то неровен час обидеть кто может.
Они постояли несколько минут молча. Потом Марья Николаевна положила Орлову на плечо руку и поцеловала его в лоб. Плечо Орлова дрогнуло. Он сорвал с головы шапку.
- Прощай, Марья Николаевна,- изменившимся голосом очень тихо проговорил он и поклонился ей земным поклоном.
- Прощай, Орлов,- тоже едва слышно ответила Волконская.
Когда она, пройдя несколько сажен, обернулась, Орлова уже не было видно. Его поглотила густая, беспросветная ночь...

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://ist-obr.ru/ "Исторические образы в художественной литературе"