
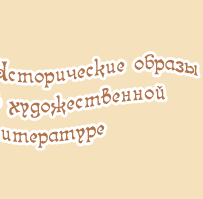

Библиотека
Ссылки
О сайте
16. Казнь
Священнику Мысловскому велено было отпеть осужденных перед казнью в их присутствии в Петропавлов-ком соборе.
После двенадцати часов ночи он стал в последний раз бходить камеры Кронверкской куртины, куда были переедены осужденные на смерть.
Каховского нашел лежащим на койке со свесившимися почти до полу закованными руками. Наручники андалов сдвинулись на похудевшие кисти, и, казалось, ще немного - совсем свалятся под тяжестью цепей.
- Пора? - спросил Каховский, приподнимаясь на локте.
От этого движения под распахнувшимся на груди арестантским халатом остро обозначились обтянутые желтой кожей ключицы.
- Не хотите ли в сии грозные и скорбные минуты по заботиться о спасении души, Петр Григорьевич?
- Почему грозные? - резко спросил Каховский, уская с койки ноги, и сковывающие их кандалы звонко ткнулись о каменный пол.- Я не боюсь умереть. Преступление для блага родины есть не грех, а подвиг. И кабы царь, по причине нашей непростительной доверчивости и его сатанинской хитрости, не осквернил бы наши души изветами и враждой, мы очистились бы подвигом сим краше, нежели вашими молитвами.
Каховский поставил локти на колени и опустил на них большую голову. Отросшие за время заключения волосы свесились и прикрыли его лицо до стиснутых в горькой складке губ.
Мысловский сокрушенно вздохнул:
- Не тем путем утверждается благо, коим вы, Петр Григорьевич, с вашими друзьями утвердить его полагали.
И вышло, как сказано в священном писании: "Поднявший меч от меча и погибнет".
Каховский приподнял голову и насмешливо проговорил:
- Сколь утешительна в таком разе для нас мысль, что тиран, по чьей воле мы идем на виселицу, сам ею кончит.
Мысловский снова глубоко вздохнул:
- Смягчитесь, Петр Григорьевич, вам легче будет.
Каховский резко дернулся на месте, и так же резко и, отрывисто звякнули его кандалы.
Плац-майор Подушкин показался на пороге.
- Пожалуйте, батюшка.
Священник, поправляя на груди большой серебряный крест, вышел из камеры.
Комендант Сукин, ожидавший его в коридоре, особенно отчетливо стуча о каменный пол деревяжкой, пошел впереди.
У одной из камер он остановился. Плац-майор подал ему тяжелую связку ключей.
Сукин выбрал тот, на котором стояла цифра "14", и вставил его в покрытый ржавчиной замок.
Один из солдат помог отодвинуть тяжелую задвижку.
Сукин открыл дверь.
Рылеев сидел за столом и что-то писал.
- Время-с, Кондрагий Федорович,- откашлявшись, проговорил Подушкин и пропустил вперед священника.
Рылеев, склонившись над столом, быстро дописывал последние строки письма к жене:
"И в сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. Ради бога, не предавайся отчаянию. Я хотел было просить свидеться с тобою, но рассудил, чтобы не расстроить тебя".
Сукин, пошептавшись о чем-то с Подушкиным, обратился к Рылееву:
- Времени маловато, Кондратий Федорович.
-Еще несколько строк,- отозвался Рылеев.
-Пишите, пожалуй, только извольте протянуть к солдату ноги, дабы он тем временем мог укрепить на них железа.
Рылеев так спокойно вытянул ноги, как будто был в модной сапожной лавке купца Столярова, у которого любил покупать обувь, и продолжал письмо:
"...Прошу тебя более заботиться о воспитании Настеньки. Старайся в нее перелить свои христианские чувства, и она будет счастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни. И когда будет иметь мужа, то счастливит и его, как ты, мой милый, мой неоцененный руг, осчастливила меня... Прощай, велят одеваться. Да будет Его святая воля... Твой истинный друг К. Рылеев". Он положил было перо, но тотчас снова взял его и риписал:
"У меня осталось здесь 530 р. Может быть, отдадут ебе". Сложив исписанный листок, он сделал надпись: Наталье Михайловне Рылеевой". Рука его дрогнула, и оследние два слова легли криво.
Несколько мгновений Рылеев подержал пальцы на исьме, словно передавая через них последний привет ене и Настеньке. Потом выпрямился и обернулся к Мысловскому.
- Сын мой,- сказал тот,- нуждаетесь ли вы в моем оследнем увещании?
Рылеев молча взял его руку и, распахнув истертый алат, приложил ее к своей горячей, покрытой редкими волосками груди.
- Слышишь, отец, стук моего сердца? Видишь, оно не бьется сильнее обыкновенного.
Потом вернулся к столу, отломил кусок хлеба, съел егo, выпил несколько глотков воды из большой оловянной кружки и с улыбкой оглядел молчаливые фигуры священника и стражи.
- Ну, я готов...
К Пестелю, как к лютеранину, царь распорядился послать пастора Рейнбота.
При входе его в камеру Пестеля тот вежливо указал край койки, сам же остался сидеть на прикрепленном стене маленьком столике.
Рейнбот взглянул в строгое, от худобы потемневшее лицо узника, на его выпуклый, сильный лоб и невольно вздрогнул. На этом лбу от висков к средине, где лежала поперечная глубокая морщина, шли сине-багровые рубцы.
"Неужели и в самом деле он был подвергнут пытке?"- ужаснулся Рейнбот, и приготовленные напутственные слова исчезли из памяти. Он шумно перевел дыхание.
Пестель коротко посмотрел пастору в глаза. Потом взгляд его опустился ниже, задержался на ослепительно белом, похожем на детский нагрудник воротнике и скользнул вниз по черному талару, закрывавшему Рейнбота до самых ступней.
- Господин Пестель,- начал Рейнбот,- знаете ли вы, что вас ожидает?
Пестель поднял усталую голову.
- Я не совсем ясно расслышал, что там решили с нами сделать,- сказал он, и Рейнботу показалось, что Пестель стиснул челюсти, как бы желая подавить зевок.
- Не желаете ли вы облегчить свою душу, господин Пестель?
- Чем? - чуть-чуть обнажая в улыбке длинные передние зубы, спросил Пестель.
И Рейнбот встретил такой взгляд темных глаз, что невольнб втянул голову в плечи. Он долго ничего не мог произнести. Наконец поборол охватившую его дрожь.
- Верите ли вы в загробную жизнь, господин Пестель?
- Да,- сказал Пестель,- верю, что преданное земле тело мое сольется с природой и будет жить в ней вечно, закономерно преобразовываясь из одной материи в другую.
- А душа, господин Пестель? Пестель пожал плечами:
- Schein* - продукт материальной природы,- спокойно проговорил он.
* (Видимость (нем.). )
Вдруг сдвинулся со стола, подошел к Рейнботу и положил обе руки на его узкие плечи.
- Вспомним Гегеля,- заговорил он: - "Если, порываясь к солнцу затем, чтобы быстрей созрело счастье чедовечества, вы утомились, и то хорошо. Тем лучше будет спать". А спать мне теперь хочется гораздо более, нежели жить. Уверяю вас, господин пастор.
И Рейнботу опять показалось, что Пестель крепко стиснул зубы, стараясь скрыть зевоту.
Снова наступила долгая пауза.
В коридоре послышался отрывистый говор, громкие шаги.
Рейнбот торопливо попятился к двери.
- Простите, господин Пестель,- проговорил он вздрагивающими губами.
- Спокойной ночи, господин пастор...
Когда старшая сестра Сергея Муравьева, Катерина Бибикова, просила Дибича о свидании с братом, не от чаянное горе, струившееся из ее заплаканных глаз, а что то другое заставило Дибича согласиться на ее просьбу.
Что это было, Дибичу самому стало ясно только много времени спустя.
Катерина Ивановна, приехав в крепость ночью, с трудом двигалась за комендантом по плохо освещенному коридору. Когда привели Сергея, она обвила его шею руками и разрыдалась.
- Сергунька, милый Сергунька,- всхлипывала она.- Эти цепи... боже мой, какие синие шрамы от них у тебя на руках... О, если бы Олеся видела тебя, Сергунька!
Ее слезы капали на его кандалы, на полосатый арестантский халат.
Сергей гладил ее по голове осторожно, чтобы не Вмять группку тугих локонов у висков. Потом, (приподняв ее подбородок, заглянул в глубину налитых слезами глаз.
- Как ты сейчас похожа на Олесю и в то же время на Ипполита! - с грустной нежностью сказал он.- Не плачь, эти оковы не должны смущать тебя. Ни чувств, ни мыслей моих они не связывают, а потому давай лучше дружески побеседуем.
И, отводя разговор о себе, он просил ее заботиться об отце и о брате Матвее.
- А ты как же? - прерывала сестра.
- Мне ничего не нужно, Катюша. - Почему?
- Уж такова моя натура, а вот - папа...
- Что с ним сталось, Сергунька! Он ныне совсем дряхлый старичок. После последнего свидания с тобой в крепости никуда не ездит и к себе никого не пускает...
- Ну, вот видишь, о нем тебе и надлежит заботиться...
- Почему мне никто не хочет сказать о твоей участи? Что тебя ждет, Сережа?
Сергей поглядел на нее долгим взором.
- Меня ждет неизвестность,- медленно проговорил он.
Катерина Ивановна, скрестив пальцы рук, прижала их к груди и жадно всматривалась в невозмутимо спокойное лицо брата.
Стоявший к ним спиной Подушкин обернулся:
- Время расходиться, господа.
- Уже? - вскрикнула Катерина Ивановна и приникла к Сергею.
Он крепко поцеловал ее в побелевшие губы и с нежной силой отвел от себя ее конвульсивно вздрагивающие плечи.
Когда он вернулся в камеру, Мишель Бестужев, которого "неизреченною милостью" того, кто распоряжался последними часами их жизни, поместили в один каземат с Сергеем Муравьевым, радостно вскочил ему навстречу.
- А я уж испугался, Сережа, что тебя нет так долго! Просто удивительно, как твое присутствие успокаивает меня. Ты это не признаешь за малодушие?
- Ты, Миша, самый отважный из нас, самый горячий патриот,- тоном внушения ответил Сергей.
- Правда, Сережа? А что плачу?..
- Это твоя молодость плачет. Нервы у тебя слишком чутки...
Бестужев близко подсел к Сергею и прислонил голову к его груди.
- Как ровно стучит твое сердце, Сережа! - с завистью произнес он.- Я дивлюсь тебе: как ты мог вчера петь по просьбе кого-то из наших соседей по камере...
- Но если мое пение доставило некоторое удовольствие...- с улыбкой начал Сергей, но Бестужев перебил его:
- Знаешь, Сережа, о чем я думал, пока ты отсутствовал? Я вспоминал, что у маменьки в усадьбе всегда по весне бывало много цветов. И в лесу, и на полях, и в саду... И каждые цвели в свой черед: сперва ландыши, потом сирень, потом розы. Но превыше всего радовало меня цветение липы. Ландыш и роза точно для себя берегут свой аромат. Чтобы его вкусить, надо приблизиться к этим цветам, сорвать их... А вот когда цветут, бывало, липы - весь воздух напоен их сладостным благоуханием. Сидишь, бывало, у маменьки, слушаешь ее чудесную игру на клавикордах, а в открытые окна струится этот пленительный запах цветущей липы. Закроешь в упоении глаза - и начинает казаться, будто сами звуки благоухают липовым цветом...
- И у нас в Бакумовке весна прекрасна,- задумчиво произнес Сергей,- небо синее, как над Адриатическим морем, а под ним цветущая земля. Цветут яблони, вишни.
Цветет любимая Олесина белая сирень. А за рекой цветут луга душистыми полевыми цветами, и над ними вьются мохнатые шмели, мотыльки, у которых Олеся перенимает для своих нарядов сочетание цветов. Птицы в Бакумовке поют целыми хорами...
Бестужев смотрел на Сергея отуманенными слезой широко открытыми глазами.
- Почему это мне вдруг вспомнился запах липы? - страдальчески морща лоб, спросил он.- В самом деле, зачем я вдруг заговорил об этом?.. Ведь вот беда, никак не могу вспомнить.
Сергей стоял у стены, закинув голову и заложив руки за спину.
- Вспомнишь, Миша, непременно вспомнишь,- ответил он, не меняя позы.
- И вспомнил,- радостно встрепенулся Бестужев через несколько минут,- вспомнил, Сережа. Вот так же точно, как у маменьки в деревне самый воздух бывает напоен липовым цветением, так и теперь я во всем и всюду слышу запах жизни - сладостный и обольстительный.- Он вытянул перед собою руки и продолжал, прерывая сам себя глубокими вздохами:- Вот, вот, ужели ты не чувствуешь его? Он забился во все углы каземата... Он льется сквозь оконную решетку... Это от него все приобретает столь манящий свет и очертания. Видишь плесень на стене? Мне она представляется чудеснейшим кружевным узором, потому что она не что иное, как живое растение, грибок. Дай мне твою руку,- она такая теплая, живая. Да, да, она еще живая и потому прекрасна.
Он схватил руку Сергея и прижимался к ней то щекой, то губами, то проводил ею по своим плечам и груди и жадно втягивал ее запах.
- Ты что-то шепчешь, Сережа? - вдруг поднял он голову.
Муравьев смотрел на него ласковыми темносиними глазами.
- Я вспомнил Ламартина, Миша. Вот послушай:
Qu'est ce done que la vie Pour valoir qu'on la pleure? Un soleil, une heure et puis une heure. Ce qu'une nous apporte une autre nous enleve... Repos, travail, douleur et quelquefois un reve*.
* (Жизнь... Она не стоит слез и сожаленья,
День за днем уходит, гаснет на лету...
Все, что жизнь нам дарит, унесет мгновенье:
Отдых, труд, страданье и порой мечту.
К ним в камеру Мысловский не вошел.)
Был уже второй час ночи, и надо было торопиться.
Когда все пятеро сошлись в коридоре, Мысловский молча обернулся к конвою, составленному из солдат Павловского гвардейского полка. Они раздвинулись, и пятеро представших друг перед другом, обманутых, истерзанных допросами, оговорами и изветами, всё забыли, кроме одного горячего желания: согреть последние минуты жизни друг друга.
- Прости, Кондратий, за то, что на допросе...- чуть слышно проговорил Каховский, когда Рылеев первый поцеловал его в сухие, дергающиеся губы.
- Молчи, молчи,- еще одним поцелуем оборвал его Рылеев.- Вы меня простите, братья,- со слезами в голосе громко просил он, обращаясь ко всем.- О, сколь счастлив я, что связующие нас узы любви, оборванные царем, вновь соединены в предсмертных поцелуях! Не будьте грустны, Мишель,- ласково, как ребенка, ободрил он Бестужева.
Подушкин развернул принесенный узел и один за другим вытащил из него пять длинных небеленого полотна саванов. Солдаты помогли натянуть их на пятерых, скованных железом. Такие же негнущиеся белые колпаки надели им на головы.
- Последний маскарад,- пошутил Сергей Муравьев.
- Костюмы национальных героев,- с сарказмом откликнулся Пестель.
Подошел Сукин. Солдаты сгрудились вокруг пятерых в саванах и обнажили сабли. Один за другим двинулись осужденные под конвоем по гулкому коридору к выходу.
Июльская ночь была тиха и задумчива. Кое-где в мутносиней выси висели едва заметные звезды. Прошел дождь, и от земли поднимался белый туман.
- Больно уж сумно, братцы,- тихо проговорил молодой солдат,- душа стынет, на них глядючи,- он указал печальными глазами на конвоируемых.
- Сиверко,- хмуро сказал другой.
Услышав солдатский разговор, шагающий сбоку унтер насторожился, зорко оглядел конвойных и увидел росинки слез на одном безусом лице.
В собор за Мысловским, тяжело прогремев цепями ступени каменного крыльца, вошли только пятеро, Стали близко один возле другого. Сквозь холст саванов чувствовали живую теплоту друг друга и ею инстинктивно хотели согреть свои души, ошеломленные надви-гающимся концом.
- "Содержит ныне душу мою страх велик, трепет неисповедим и болезнен есть",- молился Мысловский, и его слова отдавались в вышине темного купола дрожащим эхом.
- Да, да, страх велик и трепет неисповедим,- шептал вслед за священником Михаил Бестужев.
Услышав рядом с собой глубокий вздох, Пестель обернулся. Рылеев, устремив вверх блистающие невылившимися слезами глаза, шептал что-то воспаленными губами.
- Вы мне? - тихо спросил Пестель.
- Ведь Христос своею смертью смерть попрал,- ответил Рылеев.- Распятый, он стал сильнее живого...
- Там легенда, Рылеев, а за нас - жизнь,- твердо произнес Пестель.
- Пусть религия останется утешительницей для моей жены,- прерывисто проговорил Рылеев.- Пусть она не даст Наташе сломиться под налетевшей бурей несчастья...
Мысловский слышал их тихий разговор и продолжал горячо молиться:
- "Иже по плоти сродницы мои, и иже, по духу братие и друзи - плачите, воздохните, сетуйте, ибо от вас ныне разлучаются..."
"О них-то многие воздохнут и заплачут,-с тоскою думал Каховский о своих товарищах.- А вспомнит ли кто обо мне?"
И ярко, как ни разу за все пребывание в крепости, вспомнилась ему Софья Салтыкова. Легкомысленная и пылкая, кратко послушная отцу и все же решившаяся было против его воли тайно обвенчаться с Каховским, такая нежная в начале их любви и непонятно коварная, когда, под влиянием родных, вдруг отдала свою руку другому.
"Вспомнит ли она меня когда-нибудь? Или этот барон Дельвиг вовсе вытеснил меня из ее маленького сердца? Вот уж кто вспомнит меня непременно - так это дворовый человек брата, когда получит отказанное ему наследство".
"Наследство" это состояло из вещей, помеченных накануне в списке плац-майором Подушкиным: "Фрак черный суконный. Шляпа пуховая круглая, жилет черный суконный, косынка шейная черная, ветхая. Рубашка холстинная и сорок один рупь и пятьдесят копеек денег".
Отрывистый, короткий смех вырвался из сжатых губ Каховского.
- Чему вы, Каховский? - спросил Муравьев.
Каховский посмотрел в ласковые на мужественном лице глаза.
- Так, вспомнилось нечто смешное...- И мысленно добавил: - "И о тебе вспомянут с нежностью и слезами умиления. И имя Рылеева будет сиять, как неугасимая лампада. Лишь я, лишь один только я сгину, не оставив следа ни в чьем сердце..."
И сквозь туман тоски снова манящим огоньком мелькнула Софи Салтыкова.
"Скорей бы уж конец!" - коротким, полным страдания вздохом Каховский как будто развеял этот все еще любимый образ.
А Мысловский поспешно доканчивал молитву "на исход души":
- "Души рабов твоих: Кондратия, Петра, Павла, Михаила и Сергея, от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободи, остави прегрешения им, яже от юности ведомая и неведомая, в деле и слове... Да отпустится от уз плотских и греховных и приими в мире души рабов сих:
Сергея, Кондратия, Михаила, Павла, Петра... И покой... и покой их..."
Голос у Мысловского прервался. Он беззвучно про-ептал последние слова молитвы. Всхлипнул и вытер езы широким рукавом черной рясы. Потом несколько з подергал за цепь, на которой висел нагрудный крест, первым двинулся из собора. За ним пошли только что заживо отпетые по изуверскому указанию Николая. Цепи их тяжелых кандалов бряцали о каменный церковный пол своеобразным заупокойным перезвоном.
К пустырю у крепостного вала, где стояла виселица, одошли, когда небо на востоке стало краснеть, как будто оно заливалось румянцем жгучего стыда.
Стыдно было небольшой толпе народа молча смотреть на то, что должно было свершиться на деревянном помосте. Мучительно стыдно было всему гвардейскому полку, который привели присутствовать при казни.
Стыдно, до боли стыдно было музыкантам играть военный марш.
Люди боялись встретиться взглядом с осужденными потрясенные тем, что творилось у них на глазах, считали страшные минуты...
- И все же,- Рылеев весь подался в сторону Сенатской площади. Глаза его просияли,- все же вот там рогремел вешний гром российской вольности. Пусть мы бречены ей в жертву,- голос его зазвенел,- грядущие коления довершат начатое нами... Четверо его товарищей смотрели туда, где в прозрачном воздухе рассвета проступали контуры памятника Петру. Над ним проплывали облака, позолоченные лучами еще невидимого солнца...
Какой-то человек, плотный и коренастый, подошел к иселице и поставил скамью между двух серых с надруами топора столбов.
Вскарабкавшись на нее, он поплевал на свои широкие дони и стал что-то делать с висящими на перекладине
веревочными петлями. Петли, покачиваясь, касались одна другой, а угловатый человек бормотал что-то недовольное. Он был нерусский, и его никто не понимал.
Михаил Бестужев остановившимся взглядом смотрел на виселицу.
- Ultima ratio regis*,- кивая на нее, проговорил с усмешкой Пестель.
* (Последний довод властителя (лат.). )
Наконец палач спрыгнул со скамьи на взрыхленную возле эшафота землю, глубоко уйдя в нее рыжими сапогами.
К нему подскакал петербургский генерал-губернатор Голенищев-Кутузов. Выразительно проведя рукой по шитому вороту своего мундира, он спросил:
- Можно?
Палач утвердительно кивнул головой.
Голенищев пришпорил коня. Через минуту он с трудом сдержал его возле генерала Чернышева, тоже сидевшего верхом на пегом жеребце.
- Дайте знак начинать, генерал! - сказал Голенищев-Кутузов.
Чернышев поднял саблю. Забил барабан... Мысловский стал подносить к губам осужденных крест.
- Вы точно разбойников сопутствуете нас на казнь,- сказал ему Муравьев-Апостол.
- Это... вы-то... разбойники,- не в силах больше сдерживать слез отрывисто ответил Мысловский.
Бестужев замигал покрасневшими веками, но Сергей приласкал его лучистым своим взглядом, и Мишель шумно, как воду, проглотил подступившие рыдания.
Когда, спотыкаясь в длинных до пят саванах и цепях, медленно взошли на неструганые доски под петлями, еще раз простились сначала глазами, а после, повернувшись, коснулись друг друга связанными за спиной руками.
- Натяните им на глаза колпаки! Доски, доски аспидные с надписями повесьте! - командовал генерал-губернатор.
- Ну, это уж как будто бы ни к чему,- пожал плечами Сергей.
Но широкие шершавые ладони поднялись над головами приговоренных, и белые колпаки закрыли их лица, озаренные каким-то необычайно прекрасным и лучистым, как северное сияние, светом.
Солдат с лицом белым, как полотно, подал палачу пять досок с надписью "цареубийцы", и эти ярлыки по-висли у них на груди.
- Рылеев умирает, как злодей! Да помянет его Россия! - прокатился по эспланаде крепости зазвучавший былой силой голос Рылеева.
- Барабанщики, дружней! - надрывно закричал Чернышев.
Рассыпавшаяся барабанная дробь заглушила вопль ужаса, вырвавшийся у всех, кто смотрел на виселицу. Над рухнувшей в яму доской в предсмертных конвульсиях вздрагивало два тела.
Чернышев и Голенищев взапуски подскакали к эшафоту и заглянули в яму. На дне копошились трое остальных.
- Веревки оборвались, что ли? - хрипло спросил Чернышев.
- Никак нет,- лязгая зубами, ответил плац-майор,- они, видно, отсырели... и тела соскользнули...
- Поднять и повесить!
- Не медля вешать!-распоряжались генералы.
При помощи солдат из ямы выбрались трое, перепачканные глиной и землей. Колпак на лице Рылеева алел яркими пятнами крови. Кровь струилась и за ухом у Каховского.
- Голенищев! - раздался из-под колпака голос Рылеева, надломленный страданием.- Дайте палачу ваши аксельбанты, чтобы нам не умирать в третий раз.
Голова Каховского судорожно задергалась под колпаком:
- Передай, подлец, нашему тирану, чтобы он радовался: мы погибаем в мучениях...
- Вешайте! Вешайте же их скорее! - бешено завизжал Чернышев.
У Сергея Муравьева колпак сдвинулся набок, и были видны искаженные болью губы. Волоча ушибленную при падении ногу, он вместе с Каховским и Рылеевым снова взошел на эшафот.
- Бедная Россия! И повесить-то у нас не умеют порядочно,- с горестной иронией произнес он.
- Нам даже и умереть не удалось сразу,- как вздох, прозвучали последние слова Рылеева.
Палач дернул доску, и еще трое забились и замерли на затянувшихся петлях...
Когда солнце высоко поднялось над городом и по улицам разлился голубой теплый день, петербуржцы читали расклеенный на стенах манифест:
"Дело, которое мы считали делом всей России, окончено. Преступники восприняли достойную их казнь. Отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди него таившейся...
Туча мятежа взошла как бы для того, чтобы потушить умысел бунта. Не в свойствах, не во нравах русских был сей умысел. Составленный горстью извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную... Горестные происшествия, смутившие покой России, миновались и, как мы уповаем, миновались навсегда и невозвратно..."
Люди читали и перечитывали строки манифеста и сумрачно отходили от него, не обмолвясь ни словом.

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://ist-obr.ru/ "Исторические образы в художественной литературе"