
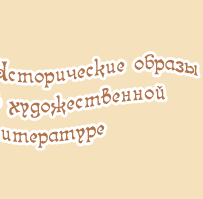

Библиотека
Ссылки
О сайте
30. "Дум высокое стремленье"
Петровский острог ошеломил всех прибывших в него осужденных.
В темных, как норы, казематах из-за отсутствия окон с утра до ночи и с ночи до утра горели сальные свечи и плошки, которые отравляли и без того спертый воздух смрадом горелого жира.
В первых же письмах из Петровского завода жены заключенных забили тревогу. Они писали и родным, и в Ш отделение, и лично Бенкендорфу, что отсутствие дневного света непременно вызовет потерю зрения узников, а невозможность проветривать казематы поведет к обострению грудных болезней, которыми многие уже страдают.
Родственники сосланных, имевшие доступ ко двору, лично умоляли обеих императриц и самого царя о разрешении прорубить окна.
Наконец разрешение это было дано, и окна, правда, узкие и под потолком, но все же были прорублены.
Проливающийся сквозь них свет тускло падал на толстые стены каземата, и эта массивная и прочная стройка острога красноречивее слов давала понять, что правительство надолго решило оставить участь узников неизменной.
Отчаяние охватило всех.
Но, как сквозь могильные камни пробивается трава, пробивались побеги жизни и в стенах этого гигантского склепа.
С терпением, не знающим пределов, узники заставляли павших духом товарищей найти утешение в осмысленном труде.
Завели общее хозяйство и во главе его поставили выборного эконома. Весь штат его помощников: повара, сапожники, огородники, часовщики, столяры - все были свои, заключенные.
В общий "котел" вносились не только физический труд и деньги, получаемые от родных, но каждый отдавал и свои знания. А так как среди узников были люди, получившие в прошлом всестороннее образование, то в казематах процветало изучение философии, социологии, политический экономии, математики, военных и естественных наук, медицины и языков.
Через жен выписывались журналы, книги, газеты; и то, что просачивалось сквозь плотину цензуры III отделения, все же давало некоторую возможность следить за происходящим в общественной жизни России и Европы.
Личная жизнь отдельных ссыльных и их семейств переплелась общим несчастьем с жизнью других, и письма, получаемые на имя кого-либо одного, всегда имели интерес для всех. Так как сами "преступники" не имели права писать, то ведущие их корреспонденцию "дамы" невольно бывали посвящены в семейные отношения сосланных, и зачастую переписка возникала уже непосредственно между их женами и родственниками. Таким именно образом Марья Николаевна Болконская подружилась больше всего с семьей Ивашевых.
Прибытие почтового возка неизменно служило поводом к тому, чтобы все собирались вместе. Самый факт прибытия посылок и писем, независимо даже от их содержания, воспринимался ссыльными как неопровержимое доказательство неустанных забот, которые проявлялись о них родными в далеком Петербурге, Москве или где-нибудь в провинции.
Больше всего посылок получали братья Муравьевы. Их мать, Екатерина Федоровна, посылала им не только все необходимое для того, чтобы скрасить их быт, но она знала и духовные потребности своих сыновей. Муравьевы получали все новинки русской и даже иностранной литературы. При этом Екатерина Федоровна проявляла необычайную изобретательность по части умения перехитрить "недремлющее око" жандармской цензуры.
Был день прихода почты, и все, по обыкновению, собрались в самом большом каземате.
Николай Бестужев, поместившись у окна на сооружении, напоминающем высокие козлы, собирал колесики самодельных часов.
Единственные инструменты, которыми он располагал,- перочинный нож и подпилок - лежали на узенькой тут же, у окна, подвешенной полочке.
Михаил Бестужев расклепывал молотком лист латуни, необходимый Николаю для его хронометра.
Равномерные удары молотка по металлу раздражали Никиту Муравьева, который тщетно пытался углубиться в чтение. Никита нервно дергал головой, хмурился, но не произнес ни слова.
Волконский, сидя на нарах, раскачивался из стороны в сторону, и его кандалы звякали тоже однообразно-надоедливо.
- А знаете, если мы задержимся хотя на год в этом мрачном стойле, мы, несомненно, погибнем,- медленно проговорил Трубецкой.
- Какое же это стойло,- улыбнулся от окна Николай Бестужев.- С тех пор как прорубили эти дыры,- он кивнул на небольшое под потолком оконце, у которого работал,- я нарадоваться не могу. Вот когда их не было, действительно было темновато. И вообще, Трубецкой, вы слишком скоро забыли трущобы Благо-датского рудника.
Трубецкой тоскливо посмотрел на него и, пожав плечами, собрался лечь на нары. Но к нему, звонко щелкая ножницами, подошел Горбачевский.
- Остричься не угодно ли, ваше бывшее сиятельство?- спросил он, подражая манерам развязного парикмахера.
- Оставьте меня, Горбачевский,- тихо ответил Трубецкой.
- Но, Сергей Петрович, ведь это моя обязанность.
- Знаю, но меня сегодня все утро изводил примеркой Оболенский. Он, кажется, слишком увлекается своим новым призванием.
- Что ж, он прекрасный закройщик,- медленно процедил Анненков, не переставая оттачивать свои блестящие длинные ногти.- И я очень завидую тем из вас, кто сумел научиться какому-нибудь ремеслу. Я же ни на что больше не годен, как только помогать поварам.
- Нет, если бы вы не были ленивы,- отозвался Михаил Бестужев, перекладывая латунный лист на другую сторону,- я бы сделал из вас великолепного кузнеца. Силища ведь у вас циклопическая. К тому же разрешение посещать литейные и слесарни, хотя бы и при конвойном, освежило бы вас, дало бы упражнение вашим могучим мышцам... Кстати, об одном слесаре,- перебил он себя.- Встретил я тут литейщика. Вихров его зовут. Он сорок
два года в ссылке. Сослан "в вечную" за участие в крестьянском бунте. И все мечтает о возвращении на родину, в Орловскую губернию. "Жена там у меня, ребятишки",- говорит. "Да, что ты, милый,- говорю ему,- какая же жена, какие ребятишки, коли сорок два года прошло с тех пор, как тебя угнали!" - "Ну-к что же,- отвечает.- Женка из молодухи, небось, в старушку обратилась, дети повырастали, внучата, чай, бегают. Не век же здесь вековать. Кабы знал, что столько будут держать,- убил бы с молодости кого-либо. Ведь по закону самые закоренелые злодеи - и те после двадцати лет каторжных работ, глядишь, и отпускаются. Домой хоцца!" И это "хоцца домой" слышу я от него всякий раз, лишь только заговорю с ним...
- Маниак!-холодно бросил Завалишин, надавливая грудью на проклеенный картон переплета.
На него даже не взглянули. Знали, что в этом, когда-то жизнерадостном, делающем блестящую карьеру лейтенанте, в связи с резким переломом в жизни, развилась тяжелая для окружающих черта: всякое проявление чувства дружбы, привязанности и любви он старался объяснить или ненормальностью, или низменными побуждениями.
- Что это нынче как поздно почта,- проговорил Трубецкой.- Скоро уж и дамы придут, а разбирать будет нечего.
- А как Катерина Ивановна себя чувствует?- спросил Анненков.
- В ее положении довольно сносно,- ответил Трубецкой и вдруг представил себе, что скоро у него будет ребенок от Каташи. Радость хлынула в грудь и, разлившись по лицу улыбкой, преобразила его.
"И этак всякий раз, как заговорят о жене,- глядя на него, думал Волконский.- А моя Мари совсем не рада беременности. Говорит, что коль скоро дитя поступит в казенные крепостные крестьяне, так лучше бы ему и вовсе не родиться".
В каземате наступила тишина. Михаил Бестужев, отдав латунь брату, примостился на своих нарах. Уже несколько дней он чувствовал себя нездоровым, но тщательно скрывал это, боясь взволновать брата. Положив под голову тугую соломенную подушку, он закрыл глаза.
Озноб мелкими льдинками скользил по телу. К воспаленным от долгих бессонных ночей глазам неотвязно и тяжело подплывала одна и та же картина, как упорно и неотвязно прибивается к берегу обломок разбитого бурей судна. Виделись прыгающие через гранитный барьер отдельные фигуры солдат Московского полка, выведенного им утром 14 декабря. Пушечная пальба по Сенатской площади перенеслась на Неву. Картечь кромсала людей, но ему все же удалось увлечь солдат на середину реки, построить в боевую колонну, чтоб вести к Петропавловской крепости и оттуда начать переговоры с царем Николаем понятным ему языком крепостных пушек. Ядра рвались на льду, взметывали его зеленовато-голубые осколки, будто невидимый рассвирепевший великан дробил исполинские стекла. В зияющих прорубях проступала черная на белом снегу вода. И вдруг из множества грудей вырвался вопль: "Тонем, тонем! Погибаем!" И люди, незадолго до того шутившие над товарищами, которые нагибали головы при визге ядра: "Что раскланялся, аль знакомое летит?" - от этого неожиданного вопля заметались в панике. Бестужев, сам по колени в воде, скомандовал: "Спасайтесь кто как может!" - и широкими прыжками выбрался на берег. За ним по пятам бежал знаменосец Любимов с оледенелым древком знамени. "Куда же нам теперь, ваше высокородие?" - с отчаянием спрашивал он. Бестужев велел отдать знамя преследующему их эскадрону драгун. Взгляд, который устремил на него Любимов при этом приказании, навсегда останется в памяти. Через несколько минут Бестужев увидел, как офицер, принявший из рук Любимова знамя, взмахнул саблей, и знаменщик упал под лошадиные копыта. Все впечатления того ужасного дня и ночи, прощание с матерью, сестрами и невестой, грубый допрос во дворце, физические муки от голода и впившихся в тело веревок, которыми по приказу царя были скручены его руки,- все это бледнело перед воспоминаниями о русой окровавленной голове Любимова. Щетинистый султан его кивера трепался на ветру у подножия желтокаменного сфинкса... И вдруг голова эта приподнялась над кровавой мостовой и веселым голосом стала выкликать все громче, все явственней:
- Ой вы, гой еси, люди добрые! Выходите-ка из палат своих, поспешите ко боярину, свет Никите Михайловичу.
Ко его ли палатам каторжным свезено добра всякого со родимой ли со сторонушки...
Бестужев открыл глаза.
В каземате суетились, втаскивая только что прибывшие ящики.
А Поджио, умеющий и в стенах полутемной тюрьмы сохранять кипучую веселость нрава своих дедов, живших под небом Италии, заласканной солнцем, продолжал шутливо созывать товарищей:
- Отбивайте донца у бочонков, наполняйте ковши винами, винами заморскими, брагой пенною...
Его голос заглушили женский смех и говор.
Бестужев окончательно проснулся и вскочил со скамьи в тот момент, когда в каземат вошли Волконская, Муравьева, Полина Анненкова, а позади всех, переваливаясь уточкой, Катерина Ивановна Трубецкая.
Каждая из них держала в руках по пачке только что прибывших писем.
С приходом этих женщин точно свежий ветер ворвался в каземат и разогнал облако тоски.
Послышались приветствия, шутки, остроты.
Анненкова с былым уменьем развязывала шнурки коробок с платьями и ловко раскладывала их на столе, по скамьям, внимательно разглядывая каждый кусочек шелка, каждый тюлевый и бархатный бант.
- Гляди, Жан,- протянула она Анненкову что-то сделанное из газа, перьев и цветов.- Ясно, что опять жена какого-нибудь чиновника, из тех, что просматривают наши посылки, носила эту шляпку, а потом, сняв с нее все изящное, свила это гнездо.
Обычно часть посылок бессовестно раскрадывалась, а если вещи были перечислены, то дорогие и изящные заменялись наскоро другими, местного изготовления.
- Ну, погляди же, Жан,- настаивала Полина,- разве maman пришлет такую гадость!
Она поднесла к близоруким глазам мужа какие-то заплесневелые жамки.
- Иркутские,- сказал, взглянув на них, Поджио и надел на себя только что отложенное в сторону газовое "гнездо" и турецкую шаль.
Полина хохотала, закинув голову, и даже Волконская, как будто разучившаяся смеяться с тех пор, как получила известие о смерти отца, не могла не улыбнуться,- так комична была фигура красавца Поджио в смятом дамском чепце и картинно накинутой на широкие плечи шали.
- Да перестаньте же паясничать, Поджио!-смеясь, попросила Трубецкая, ласково приникшая к плечу мужа.
Поджио подсел к Марье Николаевне, помогавшей Полине выбирать из банки с персиковым вареньем просыпанные в нее миндальные орехи, и тоже стал слушать Александрину Муравьеву, которая читала вслух письмо свекрови:
"Государю каким-то образом стало известно, что то одна, то другая из дам остаются по нескольку дней безвыходно в казематах своих мужей, и когда статсдама Волконская обратилась к нему с просьбой разрешить ее невестке жить с мужем под одной кровлей, хотя бы и тюремной, его величество сказал: "Мне, собственно, следует санкционировать лишь факт, и я это сделаю".
- Браво! Браво!- захлопала в ладоши Полина и, не выдержав, бросилась мужу на шею.
Он застенчиво отстранил ее.
- Ура!- крикнул Поджио.
- Урра!- поддержали и другие.
- Дайте же слушать!- перекричал всех Завалишин.
"Радуюсь, что могу сообщить о несомненно приятной для вас всех новости,- писала мать Муравьевых.- Наша мадам Шарлотта получила письмо от своей родственницы, француженки Ледантю, которая много лет проживала в доме помещиков Ивашевых в качестве гувернантки сестер вашего товарища по несчастью, ротмистра Ивашева. Почтенная сия старушка пишет, что ее дочь - Камилла, красивая молодая девушка, долго страдала каким-то тайным недугом. И только недавно она призналась своей матери, что недуг ее есть не что иное, как давняя страсть к брату девиц Ивашевых, ныне сосланному. Камилла при этом заявила матери, что в чувствах своих она никогда не решилась бы открыться, если бы объект ее страсти оставался в прежнем своем положении, т. е. богатым кавалергардом и адъютантом командующего армией. Но коль скоро постигшее его несчастье приравняло его с нею, скромною дочерью гувернантки, то, следуя влечению своего сердца, она выражает полную готовность ехать к Ивашеву в Сибирь, коли он пожелает сочетаться с нею браком... История сия трогательна до слез. Однако, будь добра, не разглашай ее до получения согласия Ивашева, чтобы в случае его отказа не причинить бедной молодой девушке лишних страданий от выраженного им небрежения к ее чувствам..."
Муравьева спохватилась и смущенно оглянулась в угол, где сидел Ивашев.
Но тот ничего не слышал, устремив глаза в только что полученное от сестры письмо. В нем она подтверждала то, о чем только что читала Муравьева и о чем накануне беседовал с ним Лепарский, который тоже получил от отца Ивашева письмо с просьбой сообщить его сыну о желании девицы Камиллы Ледантю сочетаться с ним браком.
Ивашев, болезненно тосковавший в тюрьме и собиравшийся бежать из нее, не поверил словам коменданта.
Он решил, что в отношении его осуществлялся план, придуманный товарищами совместно с комендантом: заставить его обманом если не совсем выбросить из головы мысль о побеге, то хотя бы отложить попытку к ее осуществлению. Но письмо старшей сестры было слишком просто и искренне, а привычная с детства восторженная вера в каждое произнесенное ею слово заставила его поверить этому сообщению.
Дочь гувернантки-француженки, Камилла, которую он встречал в своей семье во время наездов в гости, встала перед ним такою, какой он видел ее в последний раз, незадолго до ареста.
Молодежь играла в фанты. Ивашев был "оракулом" и, сидя посреди гостиной с покрытой платком головой, каждому из подходивших приказывал, что тот должен совершить. Ивашев слукавил: незаметно сбросив концы платка с колен, он видел то женские, то мужские ноги и мог сообразно своим желаниям давать играющим то или иное поручение.
Вот у его кресла остановились стройные ножки в розовых атласных туфельках. Остановились, шаловливо пошевелили носками, и тоненький палец уперся ему в голову.
- Этому грешнику,- чревовещательным голосом произнес Ивашев,- подлезть ко мне под платок и признаться в любви.
Ножки дрогнули, отступили, но возле них замелькали другие, в черном атласе, цветном сафьяне. Зазвенел смех, раздались голоса.
- Нельзя ослушаться оракула! Камасенька, Камасенька, ступай под платок!
Ивашев ждал. И вот на момент приподнялся платок, счастливо и испуганно сверкнули огромные глаза, и рядом с ним в темноте послышалось трепетное:
- Je vous aime, Basil...*
* (- Я вас люблю, Василий (франц.). )
Вместе со свежим, радостным запахом что-то нежно коснулось его губ, и Камилла, изогнувшись змейкой, выскользнула из-под платка.
Ивашев, склонившись над письмом, закрыл лицо руками.
Басаргин и Оболенский подошли к нему, а Муравьеза, всегда имевшая под рукой аптечку, торопилась накапать в скляночку успокоительных капель.
- Наверно, родители просто купили ему девчонку,- прошептал Завалишин на ухо Бестужеву.
Тот отшатнулся.
- Как вы, Дмитрий Иринархович, можете жить с такой мизантропичностью в сердце? - с упреком проговорил он.
Завалишин сердито схватил клещи и стал скреплять застежки пергаментного переплета сочинений блаженного Августина, под редакцией Эразма Роттердамского. Книга эта была одним из редчайших экземпляров богатой лунинской библиотеки, частями пересылаемой Лунину его сестрой. Завалишин с особенной старательностью починял застежки на этом переплете.
Пожалуй, Лунин был единственным человеком, к которому даже Завалишин относился с уважением. Они знали друг друга еще с того времени, когда Лунин был полковником лейб-гвардии Гродненского полка и пользовался личными симпатиями императора Александра и дружбой Константина.
Завалишину было известно, что после разгрома Тайного общества Константин, узнав о готовящемся аресте Лунина, предлагал ему заграничный паспорт, но Лунин отказался, заявив, что, разделяя мысли своих товарищей желает разделить и постигшую их участь... С того времени из богатого и знатного эпикурейца Лунин превратился в мистика, ушедшего в изучение религиозных догм.
Завалишину нравилось в Лунине и то, что в отношении правительства он держался не только независимо, но при всяком удобном случае старался показать ему полное презрение.
За все эти лунинские качества Завалишин отдавал ему явное предпочтение перед другими товарищами по каторге. Лунин же принимал такое его отношение с едва уловимой иронией. Он находил в Завалишине большое самомнение, а за его манеру всегда вводить парламентские правила в обычные беседы, называл его будущим председателем русского учредительного собрания. Он даже подарил Завалишину колокольчик с надписью: "Le clochet du president"*.
* (Колокольчик президента (франц.).)
И когда в камере становилось слишком шумно, достаточно было взять кому-нибудь в руки этот колокольчик, чтобы хоть не надолго, но все же наступила тишина.
Бестужев, превозмогая слабость, нагнулся было за этим колокольчиком, но его поманил к себе Никита Муравьев.
Он держал в руках журнал "Revue Britanique*, и по мере того, как перелистывал страницы, лицо его становилось все мрачнее.
* (Британское обозрение (франц.). )
- Ты посмотри,- сказал он Бестужеву, протягивая ему журнал, изуродованный многими небрежно вырванными страницами.
Волконский тоже разглядывал обезображенный журнал.
- Он похож на исхудалого толстяка в прежнем сюртуке,-с насмешкой сказал он.
- А на мой взгляд, коли сравнить оглавление с тем, что оставили жандармы,- шутливо сказал Бестужев,- то книжка сия является убогой хижиной, предваряемой великолепной прихожей.
- Батюшки, а это к чему же? - стоя на коленях перед ящиком с только что вынутой из него книгой, воскликнул Басаргин.- Глядите, "Traite d'archeologie"*,- прочел он заглавие.
* (Трактат по археологии (франц.). )
Никита подошел к нему и тоже опустился на колени:
- Дай-ка сюда эту археологию.
Перевернул несколько страниц и обрадовался:
- Ах, милая маменька, как остроумно придумала!
На, погляди,- протянул он книгу Лунину.
Тот быстро прочел несколько строк на одной из первых страниц.
- "Источник нашей чувствительности к страданиям посторонних людей лежит в нашей способности переноситься воображением на их место".
Перевернул страницу, другую и снова прочел:
- "Любовь и радость удовлетворяют нас и наполняют наше сердце, не требуя посторонней поддержки, между тем как горестные и раздирающие сердце ощущения несчастья нуждаются и ищут сладостных утешений в нежном сочувствии..." Да ведь это Адам Смит! -воскликнул он.
- Ну да, конечно,- блистая глазами, подтвердил Никита.- Это его "Теория нравственных чувств". Ты понимаешь, первая страница вырезана, вместо нее подклеен этот "Трактат по археологии", и... бдительность III отделения обманута.
Стали вынимать другие книги. И здесь повторилось то же самое. В объемистом томе под заглавием: "Newton. Principia mathematica" Никита увидел, что к нему дошла, наконец, книга Роджера Бэкона.
- Ведь это именно Бэкон,- подняв книгу над головой, возбужденно обратился ко всем Никита,- ведь это именно он во мраке века схоластики, за три столетия до Галилея, имел смелость заявить: "Domina omnium scientiarum!* - и за это его обвинили в ереси и колдовстве и на пятнадцать лет посадили в тюрьму.
* (Наука - превыше всего (лат.).)
- Роковая судьба человека, гениальность которого далеко опережает его эпоху,- задумчиво произнес Лунин.- И когда благодарное потомство оценит, наконец, его заслуги и проявит намерение воздвигнуть ему памятник, оно не сможет найти и места, где покоятся его кости.
- Нет, это восхитительно! - опять взмахнул Никита небольшой в красном сафьяне книжкой.- Глядите: "Часы благоговения для распространения истинного христианства и домашнего благопочитания", сочинение господина Шокке, а за сим смиренным названием социалистическая теория Фурье.
Никита встал с колен, отряхнул приставшие к одежде соринки сена и соломы, которыми был сверху покрыт ящик, и, подойдя к Оболенскому, прочел вслух:
- "Напрасно вы, философы, будете загромождать библиотеки сочинениями, трактующими о счастье: вы его не найдете до тех пор, пока не вырвете с корнем ствола всех социальных бедствий - промышленное дробление и разрозненный труд".
- Ты возвращаешься к нашему вчерашнему спору,- сказал Оболенский,- но я все же настаиваю на своем. Покуда не переустроится нравственная структура отдельной личности, одна часть человечества не перестанет угнетать другую, а в обществе, где угнетена хоть одна личность, не может быть всеобщего благоденствия. Сколько ненависти и упорства в этом новом учении, которое проповедует Фурье! Я по себе знаю, какое скопище таких страстей представляла моя собственная душа, когда мы затевали построить счастье родины на крови. Ныне же в мое сознание проник свет иной истины.
Оболенский встал с места, и его голубые глаза от волнения стали совсем синими.
- С чем сравню я этот свет? - продолжал он, жестикулируя вздрагивающими руками.- Слабый образ его есть солнце, которое, выходя из глубины небесной, освещает сначала верхи гор и едва заметными лучами касается долин. По мере возвышения солнца лучи его согревают долины, где нежные растения постепенно привыкают к его теплоте и вдыхают в себя его живительную силу. Так и свет сей истины, постепенно проникая в глубину самосознания, лучами любви, вечной и совершенной, озарит все, что способно раскрыться для принятия его живительной силы.
- Эта голубиная кротость Оболенского иногда приводит меня в умиление, а порой раздражает,- проговорил Басаргин.
- Не знаю, голубиная ли это кротость, или куриная слепота,- пожал плечами Завалишин и снова принялся чинить переплет.
Постепенно все расходились по своим казематам, чтобы еще раз обсудить содержание отправляемых обратной почтой ответов на полученные письма, да и перечесть эти письма наедине по нескольку раз.
Прощаясь с Марьей Николаевной, Волконский с ласковой строгостью попенял ей:
- Нехорошо, дорогая Мари, что ты никак не противоборствуешь грустному состоянию твоего духа. Ни в чем не повинный младенец войдет в жизнь с душой, преисполненной меланхолии.
Марья Николаевна подняла на мужа невеселые глаза:
- Что делать, коли я не вольна отвлечь свои мысли от постигших меня незаменимых утрат!
Волконский осторожно прижал ее к груди:
- А моя любовь к тебе вмещает добрые чувства ко всем, кто был и кто остался мне дорог. Вот скоро мы с тобой будем неразлучны...
- В каземате,- вздохнула Марья Николаевна.
- Авось не надолго,- продолжал Волконский.- Скупо, очень скупо отпускает нам царь от "щедрот" своих. Но все же - сравни наше положение с тем, какое было в Благодатском руднике.
Марья Николаевна оправила прическу и стала застегивать шубу.
- Мы с Муравьевой и Анненковой решили все же достроить свои домики на случай, если вы из гостей сможете стать их постоянными обитателями.
- А ты-то сама как полагаешь - сбудется это когда-нибудь? - вырвалось у Волконского с такою тоской, что Марья Николаевна постаралась придать своему голосу уверенность:
- Мы все будем просить об этом государя через Бенкендорфа. Мы напишем царю, что дети, которых мы ожидаем, не должны от самого своего рождения чувствовать свое сиротство, свою отторгнутость. Мы скажем ему, мы напишем...- больше голос ей не повиновался.- Я пойду,- оборвала она себя.- До завтра, Сергей...
Вечером, собравшись у Анненковой, будущие матери сочиняли прошение на высочайшее имя.
Они излагали в нем свои просьбы в сильных и горячих выражениях. Они с тонким уменьем давали понять всю бессмысленность их дальнейшего, хотя бы и добровольного заточения в казематах вместе с мужьями и взывали к милосердию того, кто сможет "одним своим словом утишить скорбь и дать возможность со счастливой надеждой ждать благословенного часа появления на свет младенцев, кои должны осушить слезы своих матерей, не иссякающие с тех пор, как их братья и сестры оставлены сиротами в навеки потерянной родине".
Но ни царь, ни Бенкендорф не обратили внимания на эти мольбы. Они были слишком заняты грозными событиями, развернувшимися и внутри России, и на фронте войны с восставшей Польшей.

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://ist-obr.ru/ "Исторические образы в художественной литературе"