
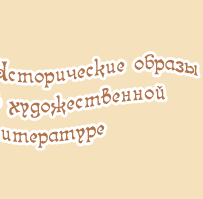

Библиотека
Ссылки
О сайте
37. На поселении
Когда из теплиц и оранжерей растения пересаживают под открытое небо и оставляют на волю бурь и непогод, бывает, что хрупкие молодые побеги никнут, листья темнеют и свертываются, а бутоны опадают бурыми комками.
Но если растения уже успели связаться с почвой тончайшими разветвлениями своих корней, если по их стеблям уже потянулись, как кровь по жилам, живительные соки земли, тогда саженцы и рассада могут гнуться ветрами, прибиваться дождем, зябнуть при заморозках - и все же день ото дня крепнуть и расти все выше.
Вырванные из жизни, полной всяческого довольства, и переселенные на промерзшую почву Восточной Сибири, декабристы в первые годы изгнания были похожи на растения, которые никак не могли привиться на новом месте. Многие, болея телом и душой, захирели.
Но отошли годы каторги в Нерчинских рудниках, в прошлом осталось заточение в Читинской тюрьме и казематах Петровского острога.
Начались годы поселения...
0сенью 1836 года генерал-губернатор Восточной Сибири Рупперт получил подписанное Бенкендорфом распоряжение:
"Государь император, снисходя к просьбе жены государственного преступника Волконского, всемилостивейше повелеть соизволил поселить Волконского в Иркутской губернии в Уриковском селении, куда назначен также государственный преступник Вольф, бывший медик, который поныне оказывал помощь Волконскому и его детям в болезненном их состоянии".
Весть о переезде в Урик внесла успокоение в семью Волконских. У них к этому времени было уже двое детей: шестилетний сын Михаил и трехлетняя дочь Елена.
По поводу предстоящего переезда Марья Николаевна получила из Урика радостные письма от Лунина и Под-жио, которые были переведены туда раньше. Пришли письма из Разводной и Усть-Куды от Оболенского, Трубецких, Ивашевых и из других расположенных вокруг Иркутска сел и деревень, где жили изгнанники-декабристы. Незадолго до Волконских увезли в Урик и братьев Муравьевых.
Александрины уже не было в живых. Она умерла три года тому назад. Никита сам одел ее, сам положил в красивый деревянный гроб, сделанный Николаем Бестужевым. Потом вместе с товарищами вставил этот гроб в свинцовый, отлитый тоже Бестужевым. С тех пор никто никогда не видел веселого лица Никиты. Накануне отъезда из Петровского завода он срезал с клумб своего сада все цветы, отнес их с вечера на могилу жены и, при-склонив голову к подножию памятника, оставайся так всю ночь.
Утром Волконская подошла к нему вместе с его пятилетней дочерью Нонушкой.
Девочка осторожно дотронулась до отцовского плеча:
- Пойдем домой, папенька! Вы вовсе про меня забыли вчерась. Я и спала у тети Маши,- она кивнула на Марью Николаевну, которая опустилась на колени перед могилой подруги.- Ну же, вставайте, папенька, вставайте! - тянула Нона отца за рукав.
Никита долго целовал белый мрамор памятника и сухую намогильную землю. Потом взял дочь на руки и, не оглядываясь, пошел с кладбища. Девочка обвила его шею теплыми руками и, прежде чем поцеловать, смахнула с его губ приставшие к ним комочки земли.
Прощаясь с Марьей Николаевной, Никита просил ее навещать могилу Александрины. И Волконская до самого отъезда приносила туда цветы и подливала масла в неугасимую лампаду, теплившуюся за стеклом в мраморной нише памятника.
В Урике, прожив несколько месяцев в избе у Поджио, Волконские поселились в большом деревянном доме на берегу реки.
Поручив занятия с сыном сосланному за участие в польском восстании Сабинскому, Марья Николаевна все свое свободное от воспитания дочери время отдавала занятиям с крестьянскими детьми. Она обучала их грамоте, пению. Девочек учила еще вышиванию и вязанию.
В праздники водила с девушками хороводы. На зимних святках обучала их украинским колядкам.
Первое лето на поселении стояло жаркое, сухое. На постаревшей от засухи почве легли глубокие трещины, в которых копошились большие муравьи с прозрачными коричневыми брюшками. Овес и ячмень заросли лебедой и бурьяном.
Крестьяне лежащих вокруг Урика деревень и сами урикчане уныло бродили от избы к избе, приходили иногда и к ссыльным погоревать о засухе, грозящей полным неурожаем.
Старики толковали, что бедствие это ниспослано богом в наказание за ослабление в народе веры...
А Улинька слышала на базаре монаха, который уверял собравшуюся вокруг него толпу, что с того самого дня, как ссыльный Якушкин поставил на своем дворе высокий шест и надел на него колесо со стрелками, именно с того самого злополучного дня не выпало по всей округе ни единой капли дождя.
- А дело ясное, братие,- зычным голосом разглагольствовал монах,- ссыльный - чернокнижник и фармазон, и чудное сооружение свое выдумал в согласии с нечистой силой на предмет разгона дождевых туч...
Волконская пыталась разубедить крестьян, поверивших словам монаха.
- А ты скажи, матушка, бывали нынче тучи над тутошними нивами? - возражал седой бородач,
- Бывали...
- А дождик не проливался?
- Не было. А при чем здесь якушкинский ветромер?- недоумевала Марья Николаевна.
Старик обернулся к стоящим за ним односельчанам:
- А вам, братцы, кажись, ясно при чем?
- Куда уж ясней,- соглашались односельчане.
И расходились по деревням, толкуя о бесовском ветромере, повлекшем за собою наваждение, которое взяло верх над всеми молебнами в церквах и на почти выгоревших нивах.
А через несколько дней, когда Якушкин крепко спал и ему снилось, что кто-то огромный, как легендарный циклоп, глухо кашляет у него под окном, несколько крестьян с топорами и заступами возились в ночной темноте над ветромером, смастеренным с таким трудом.
Утром Якушкин нашел у себя во дворе на месте ветромера лишь разрытую яму, да на заборе, зацепившись за гвоздь, болтался кусок, вырванный из чьей-то пестрядевой рубахи.
Через некоторое время получили известие, что в Ялуторовске сожжен дом ссыльного декабриста Тизенгаузена и что он ничего, кроме скульптуры - статуй, пересланных ему из Риги родными,- из огня не вынес. А крестьяне говорили о его Нептуне с трезубцем, что это и есть главный идол в доме погорельца-чернокнижника,:
События эти глубоко взволновали ссыльных, искавших всяких путей для сближения с местным крестьянством. Они знали, что недоверие к ним крестьян поддерживается и всячески культивируется местной властью, желающей заранее оградить себя от возможных "недоразумений".
Сближение с крестьянами начало расти, когда ссыльным было разрешено получать наделы сенокосной и пахотной земли, "дабы оные поселенцы заимели возможность снискивать себе пропитание собственным трудом". С этих пор непременной частью содержания посылок из России бывали разнообразные семена злаков, овощей и цветов.
Первые усовершенствованные плуги взбороздили поля "секретных", как их называли крестьяне.
Когда все, что на них было посеяно, взошло, созрело и, убранное, наполнило закрома, крестьяне целыми семьями приходили дивиться бронзовой россыпи гречи, гималайскому житу, золотистым початкам кукурузы, высокой, в человеческий рост, конопле.
Они никак не могли понять, зачем это ссыльный Под-жио "ставит окошки над овощью". А когда Поджио попотчевал их ранними парниковыми огурцами, крестьяне наперебой просили у него семян от этой "заморской фрукты".
Не меньшее удивление вызывали у них зеленая ботва и лилово-желтое цветение картофеля.
Его выращивал Матвей Иванович Муравьев-Апостол на своем огороде так же любовно, как некогда редчайшие розы и гиацинты в бакумовском имении своего отца.
Картофель имел еще больший успех, чем огурцы, и Матвею Ивановичу пришлось раздать односельчанам почти весь свой первый урожай.
В огороде у Юшневских зрели тыквы и кукуруза.
У некоторых ссыльных сельское хозяйство пошло так успешно, что им уже нехватало пятнадцатидесятинного надела. Крестьяне стали было опасаться, как бы новоселы не захотели получить прирезка из крестьянских "дач". Но опасения эти рассеялись: ссыльные испросили у начальства разрешения пользоваться пустопорожними участками из казенных оброчных наделов.
Михаил Карлович Кюхельбекер собственными руками обработал из-под леса и болот участок в одиннадцать десятин.
- И чего он хлопочет,- пожимали плечами крестьяне.- Нешто таковская земля может чего родить!
А коли и взойдет что, все едино - сорняки задавят...
Но все засеянное на "Карловом поле" взошло, созрело, и на Покров Михаил Карлович угощал скептиков плодами своих трудов - овсяным киселем и гречневой кашей, сдобренной конопляным маслом. Его он получил от декабриста Бечаснова, выжавшего масло на маслобойке собственной конструкции.
- А ведь мы, Карлыч, иначе о тебе понимали,- признались гости.- Затевает, дескать, книгочей пустое, зря изноет человечишко. А гляди, каково славно получилось!
Вадковский, Трубецкие и Лунин отдали почти все свои наделы крестьянам и занялись разведением садов.
Мсье Воше нашел способ доставить Катерине Ивановне из Франции семена цветов, которые украшали клумбы на виллах Ниццы и Биаррица. Трубецкая поделилась ими с Волконской, и их сады запестрели такими цветами, что ни одна женщина не могла пройти мимо, чтобы не полюбоваться на их диковинную красу.
- Почему вы сами не разводите садов? - спросила как-то у одной крестьянки Трубецкая.
- Мы, матушка, отродясь привыкли не садить, а вырубать дерева. Знаешь ли ты, какой кусище тайги пришлось выкорчевывать нашим дедам, чтобы поставить этакое село, как нашинское? А уж семян от своих цветиков вы нам ссудите. Больно уж хороши они у вас.
- И на Олхонской косе не хуже,- хвалили девушки сад Волконской, протянувшийся вдоль берега реки узкой и длинной полосой.- Маки там у Марьи Николаевны величиною с чайное блюдце и какого хочешь цвету: и алые, и небесные, и желтые, и, будто мотыльки, пестрые...
Волконская получила от директора столичного ботанического сада прекрасное руководство по ботанике. Она не знала, что об этом просил свою сестру Лунин, и была в недоумении, каким образом профессор Фишер угадал ее заветное желание.
- Со вступлением нашим в Сибирь,- говорил Лунин,- и началось, собственно, наше житейское поприще.
Именно здесь мы можем послужить словом и личным примером делу, из-за которого мы сюда попали.
Даже Завалишин считал, что заслужить дружбу и доверие сибирских крестьян можно только личным трудом и таким, который принес бы пользу их хозяйству, улучшил бы их быт.
Сам он усердно занялся птицеводством. Во дворе его дома разгуливали леггорны, плимутроки и напыщенные индюки с сизо-малиновыми гроздьями бород.
- Ни дать ни взять - иркутские начальники,- глядя на них, ахали крестьяне,- и важнющие, и злющие, и охальные...
А когда у индеек появилось потомство, старожилы 6 пояс кланялись "батюшке Дмитрию Иринарховичу", выпрашивая у него индюшачьих яиц, чтобы подложить их под своих наседок-пеструшек.
Оболенский и Волконский выписывали журналы и новейшие справочники по агрономическим наукам и считались главными теоретиками в сельском хозяйстве.
Деревенские ребята с раннего утра нетерпеливо поглядывали, не появится ли над крышей избы, в которой жил Матвей Муравьев-Апостол, флаг, служивший сигналом призыва на занятия грамотой.
Взрослые крестьяне ходили в ялуторовскую школу Якушкина, в минусинскую деревню к братьям Беляевым.
Беляевы втягивали крестьянских детей в собирание богатейшей своей коллекции сибирской флоры.
Горбачевский, Оболенский и Тизенгаузен тоже убеждали своих односельчан "крепко держаться за грамоту", которую они им преподавали.
Большим бедствием для сибирских сел и деревень бывали пожары. Покуда сбегался народ с ведрами, выгорали целые улицы.
Юшневские на свои средства построили пожарную вышку и провели веревку от ее колокола к себе в дом. Во дворе у них всегда стояли наготове наполненные водой большие бочки на колесах.
Доктор Вольф лечил не только своих товарищей по ссылке. К нему приходили и приезжали больные со всей обширной округи. Он внимательно выслушивал и выстукивал их и, написав рецепт, направлял к Марье Николаевне Волконской. За годы ссылки она научилась отлично изготовлять самые замысловатые лекарства. Необходимые для этого медикаменты ей присылала из Москвы сестра - Катерина Орлова.
- Мы, матушка, знаем, что ты-то нас не заморишь,- говорили ей пациенты.- А то мы всё по знахарям да по шаманам бурятским пользы от хвороб ищем. А иной развезешь больного к китайскому ламе, на самую границу.
И покуда довезешь, он и отдаст богу душу.
Дружба между "секретными" и старожилами крепла из года в год.
Как особой чести, просили крестьяне ссыльных в кумовья, в посаженые отцы и матери, в опекуны к круглым сиротам.
При посредстве ссыльных находили они защиту в судах и от произвола местных властей.
- Обуздали-то вы заседателишку,- благодарили Пущина или Оболенского их односельчане.- Супротив прежнего притеснение куда полегшало...
А если кто-нибудь из ссыльных женился на крестьянке, событие это воспринималось как праздник для всего села. И каждый его житель по своей возможности дарил молодых "на обзаведеньице".
Когда, по доносу верхнеудинского благочинного, духовная консистория расторгла брак Михаила Кюхельбекера с крестьянкой Анной Токаревой, горе этих супругов взволновало всю деревню.
Брак посчитался незаконным по той причине, что Кюхельбекер до женитьбы "принимал от святой купели незаконнорожденного женою его еще в девическом состоянии младенца".
- Пошто горюете,- утешали супругов крестьяне,- живите, однако, по-доброму, по-хорошему - и баста.
- Пошлю прошение в Синод,- с отчаянием говорил Кюхельбекер.- И если меня все же разлучат с Аннушкой, буду проситься в солдаты, под первую пулю. Жизнь без жены и детей для меня не жизнь...
Но Синод не уважил его просьбы. Аннушку приговорили к церковному покаянию, а Кюхельбекера перевели в другое место, за пятьсот верст от семьи.
Не все ссыльные одобряли женитьбу своих товарищей на местных жительницах.
Особенно возмущался браком братьев Кюхельбекеров Пущин:
- Я еще понимаю, как на такой мезальянс решился Михаил. Рассказывали, что, когда он плавал с Лазаревым к Новой Земле, еще тогда он воспылал страстью к какой-то поморке. Но Вильгельм - поэт и уж по одному этому должен стремиться ко всему изящному, прекрасному.
Выбор супружницы из полудиких буряток доказывает вкус нашего чудака. Дикой этой бабе, которая и фамилии своего мужа выговорить не умеет - называет его "Клухербрехером", он читает свои сентиментальные стихи, боится ей в чем-либо противоречить из-за ее нервических припадков и во всем ищет оправдания ее некультурности.
Оболенский пробовал защищать Кюхельбекера:
- Но ведь Дронюшка, несомненно, искренне привязана к Вилли. А грубость ее происходит от раздражительности характера.
- Ах, не все ли равно от чего грубость,- сердито возражал Пущин,- ежели бы эта бурятка была хороша собой, а не грузная баба, и то, по мне, даже красавица без отпечатка хорошего общества, хороших манер и внутреннего изящества не в Состоянии создать семейное счастье просвещенному супругу.
Все знали о давней любви между Пущиным и женою Фонвизина. Знали, что чувство это доставляет им обоим много страданий. Но Наталья Дмитриевна оставалась верной своему болезненному мужу.
Красивый и обаятельный Пущин пользовался большим вниманием сибирячек. Однако ни одной из них не удалось женить его на себе. Рассказывали даже, что, когда одна чиновничья вдова, убедившись в серьезном последствии ее увлечения Пущиным, потребовала, чтобы он "покрыл свой грех", Пущин согласился венчаться, но поклялся, что тотчас после обряда застрелится.
Вдова, которая втайне уже готовилась к свадьбе - откармливала гусей и шила подвенечное платье со шлейфом,- горько заплакала, но тут же заявила, что такою ценой сохранить свое доброе имя отказывается.
Когда Пущин пришел к ней через несколько дней, на дверях дома висел замок. Иван Иванович заглянул в окна, где уже не красовалась цветущая герань. Столы стояли без скатертей, стулья, сложенные сиденьями одно на другое, громоздились в углу. На широкой кровати, прежде убранной пирамидой пышных подушек, кружевной накидкой и подзором, лежали доски. Ни одной безделушки, ни одного флакона не украшало огромного комода... По опустелому двору с недоуменным гоготаньем бродила пара гусей.
Все попытки Пущина разузнать, куда девалась вдова, оказались тщетными. Только одна ее соседка вспомнила, что "Дарья Степановна давненько говорила о намерении хоть когда-нибудь съездить на свою уральскую сторону, откуда замуж выходила".
А через два с небольшим года к Пущину неожиданно приехала плотная, рябоватая женщина, которая назвалась Варей "сродственницей известной вам вдовушки". Варя привезла ему маленькую девочку с такими истинно пущинскими глубокими серыми глазами и с такою же как у Ивана Ивановича темной родинкой на мочке левого уха, что он не мог ни на минуту усомниться: перед ним, болтая крепкими ножонками в полосатых шерстяных чулках, сидела его дочь.
- Аннушкой крещена,- рекомендовала ее Варя отцу,- девка она разумная, послушливая. Дарьюшка, как почувствовала, что не одолеть ей хворобы, строго-настрогот наказала мне: "Как помру, свези ее к Ивану Ивановичу.
Человек он душевный, благородный..." Как найти вас - все объяснила. Домик, который остался, дочке определила.
Так она об ней сокрушалась, так заботилась. Чулочки, что вот теперь на Аннушке надеты, Дарьюшка уже еле-еле спицами ворочала, а довязала все ж таки на дорогу...
У Пущина заныло сердце. Он протянул к девочке руки. Улыбнулся. Поколебавшись немного, она пошла к нему.
- Ишь ты, несмысленыш,- вздохнула Варя.- Не понимает, знать, своего сиротства круглого...
- Какое же "круглое сиротство",- осторожно беря девочку на руки, тихо проговорил Пущин,- у нее отец есть.
Воспитывать Аннушку взялась Волконская, а Варю Пущин уговорил остаться для ухода за девочкой. - Пущин был одним из немногих декабристов, которые еще не могли отделаться от дедовских взглядов и традиций. На этой почве произошло даже охлаждение его дружбы с Оболенским, который заметно для всех выказывал Улиньке внимание большее, чем, по мнению Пущина, она того заслуживала.
Однажды, когда Оболенский торопил Пущина с поездкой к Волконским, тот нарочно поддразнивал его медлительностью сборов. Оболенский, рассердясь, уехал один. Волконских не было дома, но у них, по обыкновению, собирались гости; Горбачевский и Якушкин пришли первыми. Вспомнили о ветромере.
Оболенский посочувствовал Якушкину:
- Что и говорить, жалко, очень жалко ветромера!
- Но самое печальное в этом происшествии,- горячился Якушкин,- это то, что вскоре после того дикого изуверства пошли дожди и суеверие восторжествовало. Нет, тут надо рубить просеки, как в дремучем лесу, иначе мрак невежества заглушит узкие тропинки, нами протоптанные. Надо крепче связываться с крестьянами. А то нас снова постигнет та же участь, что на Петровой площади, когда мы, едва заметная группка, задумали предпринять государственный переворот и насильственно привить свои воззрения на государственное устройство тем, которые о нем и понятия не имели.
Оболенский пожал плечами:
- А я полагаю, что идеи свободно рождаются и развиваются в каждом мыслящем существе. Если они клонятся к пользе общественной, если они не порождение чувства себялюбивого и своекорыстного, идеи эти сообщатся большинству, и оно не замедлит их принять и утвердить.
- На Петровой площади мы их сообщали, а отчего же мы потерпели поражение? - с горечью спросил Якушкин.
- Мы имели дело с политической невозможностью,- вмешался в разговор Горбачевский.
- И, ничтоже сумняшеся,- перебил Якушкин,- затеяли внедрить в жизнь благородные идеи мерами, кои сопряжены с пролитием крови. Вот, к примеру, ты, Оболенский, с душою нежной и справедливой, ткнул на Сенатской площади Стюрлера штыком...
- Это не было плодом отчаянного неистовства,- порывисто проговорил Оболенский, и лицо его вспыхнуло.- Рукой моей руководила мысль устранить препятствия в деле благого начинания.
Вошла Улинька.
Горбачевский и Якушкин поклонились ей, а Оболенский протянул руку. Улинька подала свою, маленькую и твердую, и ласково спросила:
- Будете дожидаться наших или напоить вас чаем?
Горбачевский переглянулся с Якушкиным. Оба заметили, как темноголубые глаза Оболенского засветились нежностью, а лицо оживилось и помолодело.
- Я хочу навестить Лунина,- с улыбкой глядя Улиньке в глаза, ответил Оболенский.
- А мы пройдем к Никите Михайловичу,- беря Горбачевского под руку, сказал Якушкин.
И как только они остались вдвоем, он с недовольством проговорил:
- Евгений, несомненно, задумал жениться на Ульяше. Надо будет поговорить об этом с Волконской.
- Вот уж ни к чему,- сказал Горбачевский.- Пусть женится на здоровье. Абы только дивчина согласилась выйти за него.
А Оболенский действительно думал о женитьбе на Улиньке. Она нравилась ему еще со встречи по дороге в Петровский острог, когда он был поражен ее большим сходством с его умершей невестой. Нравилось ему в Улиньке все, что он слышал о ней от товарищей и их семейств. Даже любовь ее к Василию Львовичу Давыдову не была тайной для Оболенского и это было для него мучительно. Но именно в этом мучительном чувстве Евгений Петрович находил одно из звеньев нравственных вериг, которые он надел на себя после злосчастной дуэли.
Больше чем с кем бы то ни было Оболенскому хотелось посоветоваться о своем намерении жениться на Улиньке с Луниным, авторитет которого всеми декабристами ставился очень высоко.

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://ist-obr.ru/ "Исторические образы в художественной литературе"