
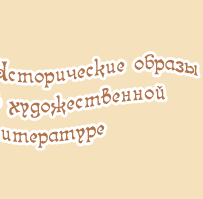

Библиотека
Ссылки
О сайте
38. "Плугом мозга"
Мимо небольшой часовни на самой окраине Урика, в длинном плаще, с ягдташем и ружьем, шел Лунин. Ружье это доставляло Лунину особое удовольствие: оно было передано ему через Васильича каким-то неизвестным почитателем, о котором старик рассказывал:
- Вышел я на рассвете по воду, гляжу - подъезжает верховой, на вид не то из купеческого, не то из духовного звания. Подает мне это самое ружьецо: "Михайле Сергеевичу передай с нашим нижайшим почтеньицем".
Отдал - и мигом вскачь от меня за околицу. А там и след простыл...
Ружье это было не хуже собственного лунинского "лепажа", о пересылке которого сестра Лунина тщетно просила разрешения у Бенкендорфа. Тайный почитатель, несомненно, был осведомлен об этом из ее письма к брату.
Сухие листья шуршали под ногами Лунина. В воздухе стоял крепкий запах смолы, смешанный с запахом прели.
Дойдя до дому, Лунин отдал двухстволку и ягдташ Васильичу и, похлопав Летуса по блестящей каштановой шерсти, вошел в свою комнату.
После нескольких дней, проведенных на охоте, она показалась ему особенно мрачной. На затянутых черным сукном стенах четко выделялись белые кресты. В углу над столом темнело чугунное распятие, освященное в Риме папой. К распятию была подвешена маленькая иконка, которую перед выступлением в поход пламенно целовал сам и давал целовать солдатам-черниговцам Мишель Бестужев-Рюмин. А когда через несколько месяцев его вместе с другими вели на казнь, он передал ее дневальному на память. И уж от него она попала к Лунину. Лунин подошел к распятию и зашептал со страстной мольбой:
- Отврати взор мой от совершенства в творениях твоих, чтобы душе моей не было препятствия в стремлении к тебе. Ниспошли мне спокойный переход за пределы суетности земной. Чувствую постепенность их приближения, и чем яснее их грань, тем попутнее становятся ветры. Избави меня от соблазнов земной любви, ибо она
снижает полет мысли, загромождает душу, мешая ей свободно вознестись в свойственную ей эфирную высь...
У двери застучали. Отойдя от распятия, Лунин распахнул ее.
Васильич держал в руках небольшой клокочущий самовар. Лунин посторонился.
- Охота не особливо успешная, батюшка Михайло Сергеич? - полувопросительно проговорил старик.- Ягдташик-то почти что пустой.
- С одним Летусом трудно,- ответил Лунин,- надо было Варку взять.
- Варка, Михайло Сергеич, пес замечательный и, между прочим, очень похожа на ту лягавую, на которую меня когдысь променяли. И подпалины такие, и белое пятно на груди. Того пса я по гроб жизни не забуду. Как сейчас помню - посадили нас с ним рядышком на крыльце, а владетели наши насупротив нас трубки раскуривают да на нас поглядывают: кто, мол, больше стоит? Гляжу я в собачьи глаза, они у нее совсем такие, как у нашей Варки. Гляжу и плачу. И, вот вам крест святой, и у ней слезы из глаз побежали.
- Ты с того обмена и бежал от помещика? - спросил Лунин, размешивая в стакане засахаренный мед.
- Да, батюшка. Дело было такое... Восемнадцатилетним парнем отдан я был в приданое за барышней, когда она сочеталась браком с генералом Татищевым. Этот генерал у карточных столов однажды до того был сражен, что пришлось нас всех в ломбард заложить. Тогда генеральша продала свои жемчуга, выкупила нас, да и покинула супруга, вернувшись под родительский кров. Батюшка ее запродал нас мелкопоместному соседу. Тот как-то на ярмарке завел кутеж с цыганками и прокутил меня вместе с лошадьми и прочей утварью. И уж этот владетель мой и обменял меня на лягаша. От того-то помещика бегал я разов пять. За это я без суда и следствия и был выслан в Сибирь.
- Так, так...- глотая мутный чай, вздохнул Лунин.- А ты книги Волконским снес?
- Как же, в тот же день, как приказали. Вышел я на базар, гляжу, их сиятельство Сергей Григорьевич на возу у мужика сидят и краюху кушают. Я им сообщил, что вы на охоту отправились. А они стали тут об охоте говорить, что, мол, какая это охота ружейная. Вспомнили, какая у вас под Варшавой псарня была, борзых одних штук двадцать... Да вы, батюшка, сливочек подлили бы,- перебил себя Васильич, пододвинув молочник, и, вновь отойдя к порогу, продолжал: - А по моему разумению, ружейная охота куда лучше. Уж хотя бы потому, что пользоваться ею всякий могит. Стрелок, скажем, к примеру, надумав поохотиться, выйдет на заре и проходит жительство, не производя никакого шуму. Бродит по полям, не причиняя нивам повреждения, ниже делая в полевых работах малейшую помеху. Иное дело псовики. Господи ты боже мой, что, бывало, делается! С полуночи уж вся округа взбудораживается ржанием коней, лаем псов, ревеньем рогов, хлопаньем арапников. А какая пагуба причиняется той затеей осенним посевам и вешним всходам!
Васильич любил поговорить, но, заметив, что Лунин смотрит мимо него, замолчал: знал, что, когда он так устремляет куда-то вдаль широко раскрытые глаза, можно и говорить и делать что угодно,- Михаил Сергеевич все равно в такие минуты ничего не видит и не слышит.
- Находит на него вроде наития какого,- сообщал об этом Васильич своей старухе,- сидит ровно в столбняке, а потом, глядишь, слезы из глаз польются, а он их будто и не замечает. Правильный барин. Кабы был православный, беспременно в раскольничий скит ушел бы...
Васильич уже собирался уходить в свою сторожку, как на крыльце послышались шаги.
- Лунин, ты дома? - спросил Оболенский.
- Пожалуйте, ваше сиятельство,- приветливо встретил его Васильич.- У нас и самоварчик кстати поспел.
- Я был у Волконских, но их нет дома. Сергея вызвал Рупперт, а Марья Николаевна отправилась на прогулку.
- Одна? - спросил Лунин.
- Нет, с Поджио.
- Так,- уронил Лунин.
Васильич потоптался у стола и вышел.
- Послушай, Лунин,- первым заговорил Оболенский,- я хочу спросить тебя: любил ли ты когда-нибудь?
- Женщину?-спросил Лунин.
- Да,- поспешно ответил Оболенский и покраснел.
Заметив это, Лунин снисходительно улыбнулся.
- Для меня это ушло,- помолчав, сказал он.-А было большое чувство.
- Но. ведь так нельзя, Михаил Сергеевич. Холодно так жить. И когда-нибудь ты пожалеешь, что не создал семьи...
- Я сожалею лишь о том,- строго остановил его Лунин,- что освобождение моей души от чувственных страстей, этот, как его именует Платон, "катарзис" произошел со мною уже после того, как я шагнул к грани моих зрелых лет...
Оболенский почувствовал, что говорить с Луниным об Улиньке не к чему. Ему вдруг показалось, что он вошел с радостной песней к тяжело больному. И он заговорил совсем о другом:
- А несколько дождей все же исправили засушливость, и виды на урожай у меня улучшились. Травы и ячмень хорошо пошли и дают надежду на безбедное продовольствие на зиму всей нашей волости. А то она от засухи находилась уже на последней степени истощения.
- Очень рад,- рассеянно произнес Лунин, мешая ложечкой в стакане.- Очень рад...- лицо его было бледно и устало.
Оболенскому вдруг стало жалко этого большого, умного человека.
- Нехорошо все-таки, Михаил Сергеевич, что ты вовсе не занимаешься сельским хозяйством. Я уж не говорю о материальной его выгоде в нашем положении, но постоянное пребывание на свежем воздухе было бы весьма полезно для твоего здоровья. А то ты совсем восковой стал...
- Я часто хожу на охоту и вдоволь дышу лесным воздухом... Но, как Платон и Геродот, не лажу с сохой и бороной,- задумчиво ответил Лунин.- Впрочем, плугом своего мозга я пытаюсь поднять и выкорчевать толщу мракобесия и невежества самодержавного режима.
- Ты как будто избегаешь бывать среди нас. У Волконских тебя тоже редко можно встретить...
- И там обо мне скучают? - с иронией спросил Лунин.
- Конечно, скучают. Марья Николаевна спрашивала и ее сынок.
- Она, вероятно, волнуется, что наши уроки с Мишей идут нерегулярно. Но мальчик уже болтает по-английски...- тем же удивившим Оболенского ироническим тоном продолжал Лунин.
Они помолчали.
- Я много работаю последнее время над разбором "Донесения Следственной комиссии" по делу Тайного общества,- заговорил Лунин.- Нельзя допустить, чтобы этот насквозь лживый документ остался в истории восстания на Сенатской площади неопровергнутым. По смотри, как много уже мною написано,- и он протянул Оболенскому тетрадь, исписанную мелким четким почерком.
- Как бы только этот твой ценный труд не остался втуне,- вздохнул Оболенский, полистав тетрадь.
- Нет, Евгений, не останется,- уверенно произнес Лунин.- Правда, мы отрезаны от общества, у нас нет ни трибуны, ни печати, где бы мы могли порицать уродливые формы жизни нашего отечества. И тем не менее мои политические идеи проходят закономерные свои стадии.
Оболенский удивленно смотрел на Лунина.
- Сначала они теснятся в моей голове,- продолжал тот,- затем переливаются в разговоры с друзьями и письма к близким, потом становятся достоянием более широкого круга, а когда-нибудь, сделавшись народным достоянием, потребуют удовлетворения и, встретив сопротивление, разрешатся революцией.
Лицо Лунина оживилось, глаза стали похожи на прежние лунинские глаза - сверкающие живою мыслью и острым, искрометным умом.
- Помнишь прокламации, которые разбрасывались в казармах семеновцев и среди людей Черниговского полка покойным Сергеем Муравьевым-Апостолом и его товарищами? Разве эти запретные листки не явились искрами, из которых возгорелось пламя восстания этих исторических полков?
- Но что можешь сделать ты в этом заброшенном за тридевять земель Урике? - с горьким недоумением спросил Оболенский.- Какими путями донесешь ты до народа свои идеи?
- Ты знаешь мою сестру Катерину? - с живостью произнес Лунин, и глаза его потеплели.
- Мы все преклоняемся пред Катериной Сергеевной за чувства, которые она проявляет к тебе неизменно в течение уже более десяти лет,- ответил Оболенский.
- Да, одна такая сестра - замена множества опекунов и друзей,- дрогнувшим голосом проговорил Лунин.- Ее дружба во все периоды моей бурной жизни не переставала сиять мне, как звезды среди ночи... Так вот... ты спрашиваешь о путях распространения моих идей? Они уже найдены, мой друг,- сказал с живостью Лунин.- Прежде всего - это мои письма к сестре Катерине Сергеевне. Они пишутся собственно не к ней. Читают их не только московские и петербургские знакомые моей сестры, а еще очень многие. Это мне известно достоверно. Письма мои служат выражением убеждений, которые привели меня в темницу, на каторгу и в ссылку. Гласность, которой они пользуются через многочисленные списки, обращает их в политическое орудие, которым я действую во имя свободы.
Лунин был прав. Приказав почтовому ведомству тщательно читать письма ссыльных, корпус жандармов и тайная полиция не учли одного серьезного обстоятельства: среди тех же почтовых чиновников находились такие, которые, прочитав эти письма, задумывались над их содержанием, проникались их идеями и, переписав, часто относили домой, чтобы прочитать еще раз в семейном или дружеском кругу.
Письма Лунина пользовались особенным успехом. К почтовым чиновникам, через руки которых они проходили, стали наведываться то сельские учителя, то фельдшер или врач, то чиновник какого-нибудь ведомства с "покорнейшей просьбицей разрешить списать послание уриковского поселенца". А затем письма эти переписывались снова и снова с таким же усердием, как некогда переписывались запрещенные стихи Рылеева, Пушкина и грибоедовская комедия "Горе от ума"... Их читали в самом Урике, в Иркутске, Верхнеудинске, Минусинске, по Уде и Селенге, по Ангаре и Енисею, на границе с Китаем, в Кяхте и по всему обширнейшему Забайкалью.
- Да как же Катерина Сергеевна не боится пускать твои письма в обращение? - спросил Оболенский.
- Она моя сестра, следовательно, чувству страха не подвержена,- с гордостью ответил Лунин.- Кроме писем, я ей посылаю и мои статьи по разнообразным вопросам политической и общественной жизни нашей родины. В скором времени мне представляется очередная оказия отправить ей мою статью "Розыск исторический". Статья эта определяет мою точку зрения на основные моменты истории нашего отечества. Никита Муравьев сделал к ней интересные примечания. Мне остается только переписать их своей рукой, чтобы в случае чего не подвергнуть кузена лишним неприятностям... Через эту же совершенно надежную оказию я пошлю сестре и мой "Разбор". Я пишу ей, чтобы она переслала обе статьи в Париж Николаю Тургеневу. Ей это легко будет сделать через Александра Тургенева, который во время своих частых поездок за границу, конечно, встречается с братом. А тот уж найдет способ напечатать статьи, как "свободный голос из-за Байкала".
- А если "Разбор" станет известен Третьему отделению и твою сестру начнут допытывать, как...
- Это уже предусмотрено,- перебил Лунин.- Я дал ей совет: в случае таких расспросов сказать, что получила она эту рукопись давно, от коменданта Выборгской тюрьмы, в которой я сидел десять лет тому назад, после нашего осуждения, до отбытия на каторгу. Почтенный комендант сей умер и может быть привлечен к ответственности только на том свете,- шутливо закончил он.
Лунин не знал еще, что в то время, как он неутомимо искал всевозможные средства борьбы с самодержавной властью, судьба его уже была предрешена...
- Ну, я пойду к Никите,- сказал Оболенский, допив свой чай,- он просил меня доставить ему записки князя Щербатова по русской истории... А ты к Волконским нынче вечером будешь?
- Обязательно.
Проводив гостя, Лунин сел дописывать письмо к сестре, начатое еще до отправления на охоту.
"...Дражайшая! - писал он.- Человек, берущий на себя доставку сих строк, постоянно делал мне доказательство своего ко мне расположения и вполне заслуживает доверия. Ты позаботишься пустить и это мое письмо в обращение, размножив его также в копиях. Цель этого моего письма, как и иных, нарушить всеобщую апатию. Сперва я докончу мои мысли, затронутые в предыдущем письме о нескольких мильонах братьев, продаваемых оптом и в розницу, которые до сего дня не находят сочувствия нигде, кроме того, о котором говорили мы в Тайном обществе.
Оно одно поняло их общественное положение и протянуло руку помощи среди всеобщего невнимания и угнетения. Ни помещики, ни правительство,- хотя Тайное общество и указывало им на вопиющую несправедливость рабства и на неминуемую опасность, проистекающую из всякой несправедливости,- ничего не сделали за все годы после разгрома нашего Общества для облегчения судьбы крестьян и предотвращения надвигающейся грозы. Когда она разразится, у них не окажется накаких других средств, кроме военной силы. Но эта сила, действительная всегда против чужеземцев, может оказаться тщетной против русских. Кроме того, еще вопрос, согласятся ли наши солдаты, хотя и приученные к повиновению, обратить штыки против своих братьев. Луч сознания, который толкнет крестьян отстаивать свои права, сможет равно проникнуть и в солдатскую массу и из слепого орудия власти превратит их в благородного союзника угнетенных...
Теперь о журналах, кои ты мне присылаешь. С горечью вижу, что даже поэзия повесила свою лиру на вавилонские ивы. Правительство стремится превратить и литературу и поэзию в столпы самодержавия. Периодические издания выражают лишь ложь и лесть, столь же вредную и для читателей, сколь и для власти, ее терпящей. Если бы мы могли из глубины сибирских пустынь возвысить свой голос, мы бы вправе были сказать руководящей партии:
"Вы взялись очистить Россию от заразы либеральных идей и окунули ее в бездну и мрак невежества, в пороки шпионства. Рукой палача вы погасили умы, которые освещали и руководили развитием общественного движения, и что вы поставили на их место?
Мы вызываем вас на суд современников и потомства. Отвечайте".

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://ist-obr.ru/ "Исторические образы в художественной литературе"