
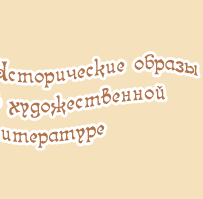

Библиотека
Ссылки
О сайте
41. "Невольник чести"
Морозные узоры на окнах пушкинского кабинета, все эти серебристо-белые диковинные ели, папоротники, кактусы и лианы начали розоветь от лучей поднявшегося солнца. Порозовел и стоящий на книжной полке мраморный бюст Вольтера.
В кабинете стало светло, но Пушкин, не замечая этого, продолжал писать при свете свечей, обгоревших уже почти до самого медного шандала. Он закончил страницу, просмотрел ее и снова разорвал на мелкие кусочки. Потом запахнул халат и подошел к окну. Над Мойкой клубился морозный туман. Серобокая ворона, усевшись на церковном кресте, оглядывалась по сторонам.
Постояв несколько минут в глубоком раздумье, Пушкин вернулся к письменному столу и, взяв лист чистой бумаги, бросил его на сукно. От этого движения разорванные в клочки черновые письма к Геккерену, которые он писал ночью, разлетелись во все стороны. Пушкин обмакнул перо и стал писать, не отрываясь. Лоб его нахмурился и покраснел, на висках забились тугие синие жилки, губы приоткрылись над крепко стиснутыми зубами.
"Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый взяться за дело, когда почту за нужное,- писал Пушкин.- Случай, который во всякую другую минуту был бы мне очень неприятен, представился весьма счастливым, чтобы мне разделаться. Я получил безыменные письма и увидел, что настала минута, и я ею воспользовался. Я заставил вашего сына играть столь жалкую роль, что моя жена, удивленная такой низостью и плоскостью его, не могла воздержаться от смеха, и ощущение, которое она могла бы иметь к такой сильной страсти, погасло в самом холодном презрении и заслуженном отвращении. Ваше поведение, господин барон, было далеко от правил приличия. Вы родительски сводничали вашему сыну, поведение коего, впрочем, достаточно неловкое, было руководимо вами. Вы диктовали ему все заслуживающие презрительной жалости глупости, которые он позволил себе писать. Как старая развратница, вы подкарауливали жену мою во всех укромных местах, чтобы говорить ей о любви вашего так называемого сына, и когда, больной дурной болезнью, он не мог выйти из дому, вы говорили ей: "Возвратите мне сына..." Согласитесь, господин барон, что после всего этого я не могу сносить, чтоб мое семейство имело малейшие сношения с вашим. Я не могу позволить, чтобы сын ваш после своего отвратительного поведения осмелился обращаться к моей жене, и еще менее того-говорить ей казарменные каламбуры и играть роль преданности и несчастной страсти, тогда как он подлец и негодяй. Я вынужден просить вас окончить все эти проделки, если вы хотите избежать новой огласки, перед которой я не отступлю".
Пушкин откинулся к спинке кресла, на несколько мгновений закрыл воспаленные от бессонной ночи глаза, потом снова склонился над письмом. Хотел продолжать, но передумал, и, отступя, закончил:
"Имею честь быть, господин барон, ваш покорный и послушный слуга.
Л. Пушкин".
Запечатав письмо и надписав адрес, Пушкин стиснул руки и сильно потянулся.
Задетая его локтем книга с шумом упала с полки. И сейчас же из детской послышался плач ребенка.
- Няня,- раздался сонный голос Натальи Николаевны,- унеси Наташеньку в столовую или к сестрице Азиньке, а то спать не дает.
Нянька зашлепала босыми ногами, баюкая плачущую девочку, а навстречу ей уже раздавались' торопливые шаги, и голос Александры Николаевны ласково зазвучал:
- Ну, полно, полно, крохотулечка моя! Поди, поди к тете, пичужечка!
"Нежности в ней сколько!" - прислушиваясь к этому голосу, подумал Пушкин, и что-то хорошее всколыхнулось у него в груди. Он осторожно приоткрыл дверь в гостиную.
Александра Николаевна в коротеньком капоте и мягких ночных туфлях, сидя в кресле, покачивала ребенка.
- Поди, милая, пошли ко мне Никиту, чтобы давал одеваться,- негромко попросил ее Пушкин.
Через полчаса, освеженный холодным умыванием и крепким, "по-молдавански" сваренным кофе, он вышел из дому, чтобы самому отправить заготовленное письмо.
В сумерки доложили о приезде виконта д'Аршиака.
Живое воплощение кодекса дуэльных законов, прямой и чопорный виконт протянул Пушкину узкий конверт, заключавший в себе ответ Геккерена.
Пушкин вскрыл его. Бегло просмотрел первую страницу и, дойдя до строк: "Мне остается только сказать, что виконт д'Аршиак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном Жоржем Геккереном", бросил взгляд еще на фразу в конце письма, написанную рукой Дантеса: "Читано и одобрено мной", и облегченно вздохнул.
- Итак, сначала с сыном,- как бы про себя прошептал он и задумался, глядя поверх виконта.
Тот сдержанно кашлянул.
- Сегодня я пришлю к вам своего секунданта,- сказал Пушкин.
Д'Аршиак поклонился.
- Я буду его ждать у себя на дому до одиннадцати часов вечера. А после - на балу у графини Разумовской.
Вопрос о том, кого пригласить в секунданты, остро встал перед Пушкиным. Он не хотел звать на эту роль никого из друзей - не только потому, что они снова постараются расстроить поединок, но и потому, что за участие в дуэли полагалось строгое наказание.
В этом отношении лучше всего было прибегнуть к содействию иностранного подданного, стоящего вне угрозы русских законов о дуэли. И Пушкин решил пригласить в секунданты секретаря английского посольства Медже-ниса. Зная, что у графини Разумовской бывает весь дипломатический корпус, он решил у нее на балу переговорить с Медженисом.
Артур Медженис выслушал Пушкина с серьезным вниманием. Поблагодарил за оказанную честь, но определенного согласия не дал. Он не хотел принимать участия в этой дуэли, потому что слышал о ее причине и был убежден, что примирить Пушкина с Дантесом невозможно.
Пушкин несколько раз ловил на себе вопрошающий взгляд д'Аршиака и начинал терять хладнокровие. Его страшила мысль, что промедление с присылкой секунданта будет понято противной стороной за намерение оттянуть поединок.
Тогда он уговорил Меджениса переговорить с д'Аршиаком хотя бы предварительно. Медженис согласился. Но после первых же его слов, сказанных секунданту Дантеса об известном ему деле с Пушкиным, тот строго остановил его вопросом:
- Имею ли я честь говорить с секундантом господина Пушкина? - и, не услышав подтверждения, решительно отказался от всяких переговоров по этому делу.
Медженис багрово покраснел и бросился отыскивать' Пушкина. Но Пушкин, издали наблюдавший за их разговором, понял, что миссия Меджениса не удалась, и поспешил на поиски секунданта. Он решил обратиться к своему лицейскому товарищу подполковнику Санкт-Петербургской инженерной команды Данзасу.
После долгих звонков и стуков в дверь его квартиры сонный голос слуги-денщика сообщил:
- Их благородие уехали к тетеньке Марье Васильевне по случаю ее ангела и будут поздно.
- А ты ему скажи, что был Пушкин и наказал, чтобы он приехал к нему завтра утром по делу весьма важному. Понял?
Солдат приоткрыл дверь. Поднес к лицу Пушкина огарок сальной свечи, вгляделся в это лицо, и вся его сонливость исчезла.
- Так точно, скажу, что дело сурьезное и чтобы ехали они к вам незамедлительно.
- Смотри же!
- Уж будьте благонадежны.
"Теперь заеду за женой к Вяземским. Она, наверно, там, и он, конечно, возле",- решил Пушкин.
И не ошибся. Войдя в кабинет князя, где играли в карты, он заметил в лице хозяйки легкое смятение, но улыбнулся так, как улыбаются после перенесенных страданий, и спросил просто:
- Он, конечно, возле?
- Да, барон Дантес здесь,- ответила княгиня и, спохватившись, что своим ответом подчеркнула то, чего не надо было подчеркивать, покраснела, как девочка. Перебросившись с игроками несколькими фразами, Пушкин подошел к жене и молча подал ей руку. Побледнев, она встала и покорно двинулась за ним. Нa этот раз ее стройная фигура не казалась такой высокой рядом с Пушкиным.
Кончилась еще одна бессонная ночь. Синий рассвет заглянул в не завешенное с вечера окно. Пушкин встал из-за стола и подошел к дивану, чтобы прилечь, но, окинув усталыми глазами разбросанные по столу бумаги, он часть из них бросил в ящики, другие, изорвав, стряхнул на пол. Осторожно ступая, он прошел мимо детской к умывальнику. Подставив голову под студеную воду, он растирал лицо и шею, с наслаждением испытывая освежающий озноб.
Вернувшись в кабинет, он нашел только что поданную Никитой записку от Меджениса, в которой тот отказывался быть секундантом "в деле, где не может быть примирения противников".
После разговора с ним на балу у Разумовской этот отказ не был для Пушкина неожиданностью, и тем с большим нетерпением он стал ждать Данзаса.
Рассчитав, что тот не может быть раньше десяти часов, Пушкин решил употребить оставшееся время на прогулку, которая всегда его успокаивала.
- Только уж извольте кушать, Александр Сергеевич,- сказал Никита, ставя на стол завтрак.- А то я ваш обычай знаю: забудетесь в писаниях, а кофей-то и простынет..,
- А ты крепкого сварил? По-молдавански?
- Почитай, двадцать годов варю его вам,- обиженно ответил Никита.- Чай, знаю, как потрафить. Я вот и калачей у булочника горячих взял. Извольте поглядеть, какие румяные. Кушайте, Александр Сергеевич, а то, известное дело, в холодном виде никакого вкусу в кофее быть не может.
Пушкин взял дымящуюся чашку и надломил калач. Убирая кабинет, Никита пригоршнями собирал клочки разорванных бумаг и писем.
- Накося сколько,- ворчал он.- Писали, писали, а теперь ими без дров камин истопить можно. Неужто вам трудов своих не жалко? Спохватитесь опосля, ан будет поздно.
- Жги, братец, без сожаления,- откликнулся задумчиво Пушкин и стал одеваться. Рубаха была еще теплая от утюга, и ее прикосновение приятно согревало.
- Батюшки! - ахнул Никита.- Постель-то вовсе не смята. Видать, и не ложились. И то ночью, как ни взгляну, все под дверью полоска светится. Ну, куда же это годится...
- А ты почему по ночам не спишь?
- Мое дело иное, Александр Сергеевич. Старость подошла, вот сон и нейдет. Ужо в могиле отсыпаться буду.
Приглаживая щеткой влажные завитки волос, Пушкин, улыбаясь только глазами, спросил:
- А помирать, небось, неохота?
- Для чего неохота, батюшка? - искренне удивился старик - Уморился я, чай, пожил свое. Пора и на отдых.
- Это в могиле-то отдых?
- А то как же... Хоть за такими барами, как господа Пушкины, жить можно, а все же в ней-то, в мать сырой земле, поспокойнее будет. Почивай себе сном вечным и праведным. Летом над тобою птицы песни запоют, зимой снежком, будто периной мягонькой, прикроет...
- Так ведь ты ничего этого ни слышать, ни чувствовать не будешь,- серьезно возразил Пушкин.
- А кто ж его знает,- прищурил Никита один глаз.
Пушкин потрепал его по плечу:
- Эх ты, метафизик! Ну, давай шубу, я немного прогуляюсь. А в случае без меня полковник Данзас приедет, проводи в кабинет и проси обождать. Да подай ему кофе.
Впрочем, я вернусь, наверно, раньше.
Не будучи уверен, следует ли ему обидеться на незнакомое прозвище "метафизик", Никита на всякий случай ответил с холодным достоинством:
- Помилуйте, Александр Сергеевич, что же, я первый год при господах состою, чтобы не знать, как ихнего друга принять...
Пушкин широко шагал по еще не расчищенным от снега и малолюдным улицам, глубоко вдыхая холодный и чистый воздух.
- Хорошо! Ах, как отлично! - несколько раз произнес он вслух, приближаясь к Летнему саду.
"А как должно быть чудесно сейчас в Михайловском,- думал он,- как ослепительно сверкают теперь за Соротью снежные поля! Какие мохнатые деревья в парке, а нянин домик, должно быть, совсем замело и дорогу в Тригорское тоже... Даже этот столичный сад похож на сказочный лес с нехожеными тропами..."
Дойдя до конца аллеи с мраморными, в снежных шлемах и мантиях статуями, Пушкин остановился, пристально оглядел белую равнину Марсова поля, громаду Мраморного дворца и повернул к выходу.
Проходя мимо дома, в котором жил Брюллов, он вспомнил, что художник имеет обыкновение вставать рано, и решил зайти к нему.
Брюллов уже стоял у мольберта, в длинной бархатной блузе, с палитрой и кистью в руках.
- Кто там? - спросил он, не отрывая глаз от своей работы.
- Раб божий Александр, вошедший в храм искусства, дабы поклониться его жрецу,- начал Пушкин смиренным голосом, но Брюллов перебил его:
- Очень рад. Скорей сюда! Ты ведь знаешь мою модель. Посмотри-ка на нее.- Он схватил Пушкина за руку и притянул к портрету молодой женщины с арапчонком.
- Хорошо! - после минутного созерцания похвалил Пушкин.- Графиня как живая! Ты, Карл Павлович, передаешь аффектацию чувств как истинный романтик. Своею манерой письма ты совершенно сражаешь мертвенность классицизма. И это особенно в твоих портретах. Какая кисть! Я их ставлю превыше всего, тобою написанного. Разумеется, я ценю и "Гибель Помпеи". У меня даже об этой твоей картине сложилось двустишие: "И стал последний день Помпеи для русской кисти первым днем..." Но и в этом твоем полотне я люблю отдельные фигуры, а не всю композицию...
- Нечто подобное говорил мне в Москве и Нащокин,- задумчиво произнес Брюллов.
- А как славно бывало у Павла Воиновича! - грустно улыбнулся Пушкин.- Помнишь, как он тебя под замком заставлял работать да по три дня на волю не выпускал? А цыганку Таню помнишь? А шута Якима? Как он певал: "Двое саней со подрезами, третьи писаные подъезжали ко цареву кабаку"?
Пушкин пропел залихватский мотив, но голос его звенел печалью. Отойдя от мольберта, он взял с тарелки сухарик и с хрустом стал жевать его.
Брюллов взял в руки палитру.
- А когда же ты напишешь мою мадонну? - спросил Пушкин.
- Так ведь брат сделал уже портрет Натальи Николаевны.
- То брат, а то ты,- ответил Пушкин.- И потом... тогда она была почти девочкой. А теперь она совсем другая,- со вздохом сожаления произнес он последние слова.
Брюллов старательно водил кистью по портрету графини.
- Да, я видел твою жену осенью на выставке в Академии художеств,- сказал он, не отрываясь от работы,- в белом атласе с черным бархатом Наталья Николаевна была восхитительна. И, не в обиду тебе будь сказано, восторги, расточаемые вам на этой выставке, должны быть поделены между твоею славой и красотой твоей жены.
- Я тогда же целиком отказался от них в ее пользу,- быстро проговорил Пушкин.- А сейчас я принужден отказаться от твоих сухариков и чая, потому что пора домой... Давно пора...
- Постой, постой,- Брюллов отложил палитру и кисть и схватил Пушкина за фалду сюртука,- погоди, я хочу тебе показать еще кое-что. Мокрицкий! Мокрицкий! - громко позвал он.
В мастерскую вошел один из его учеников и робко поклонился Пушкину.
- Будь любезен, голубчик,-попросил его Брюллов,- подай мне альбом с теми рисунками. Ну, ты знаешь...
Не сводя глаз с Пушкина, Мокрицкий попятился к двери. Когда он вернулся, Пушкин, уже в шинели, сидел на диване и нетерпеливо постукивал пальцами по столу.
Брюллов отыскал среди рисунков набросок "Съезда на бал к австрийскому посланнику в Смирне" и показал его Пушкину. Рассмотрев рисунок, Пушкин залился смехом:
- Уморительные персонажи! В особенности этот страж законности и порядка. Подари мне его, душа моя.
Подари, Карл Павлович!
-Никак не могу, Александр Сергеевич, я этот рисунок обещал одной даме.
"Да что же это за человек! - возмутился про себя Мокрицкий,- Пушкин просит, а он отказывает!"
А Пушкин настаивал:
- Подари, Карл Павлович! Я на колени перед тобой стану.
У Мокрицкого сжалось сердце:
"Неужели все же не подарит? Ведь никто мне не поверит, когда расскажу. А Тарас и вовсе разъярится".
Брюллов даже изменился в лице, но все же еще раз отказал:
- Хочешь, я тебе Волконскую с младенцем изображу? Или подарю акварель - Сергей Волконский, прикованный к каторжной тачке, видит сон: жену и сына....
Пушкин мгновенно стал серьезен. Выпрямился, встряхнул головой.
- Хочешь, я твой портрет напишу? - продолжал Брюллов.- Хоть завтра приезжай на первый сеанс.
- Хорошо, душа моя,- уже спокойно ответил Пушкин,- если только будет можно, завтра же приеду позировать. А теперь прощай!
- Да побудь хоть еще немного! - попросил Брюллов.- Экой ты непоседа, право. Вечно куда-то спешишь. И как только я тебя писать стану? Ведь ты и самого короткого сеанса не высидишь...
- Зато, если помру, мертвого срисуешь,-серьезно проговорил Пушкин, пожимая белую узкую руку художника.
В ответ на прощальный кивок поэта Мокрицкий в пояс поклонился ему. Когда он вышел, Мокрицкий с укором поглядел на своего учителя, но ничего не сказал. Брюллов явно был очень расстроен - не то он был недоволен собой, не то еще чем-то, чему не находил причины.
Когда Мокрицкий на другой день рассказал в Академии художеств о визите Пушкина к Брюллову, молодые художники все, как один, были возмущены "скупердяем Карлом".
А Тарас Шевченко, потрепав себя за чуб, что он имел обыкновение проделывать, когда бывал чем-нибудь возмущен, воскликнул:
- Да я бы Пушкину всего себя... Да что себя... Я бы ему Сикстинскую мадонну, як бы вона була у мене, пода-рував бы... Я б ему душу вщдав...
И в знак протеста не присутствовал в этот день на занятиях с Брюлловым.

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://ist-obr.ru/ "Исторические образы в художественной литературе"